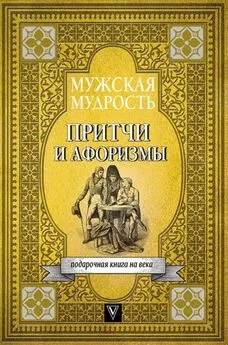Коллектив авторов - «…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина
- Название:«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-280-03913-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - «…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина краткое содержание
Фотопортреты авторов сборника также уникальны – они обнаружены в личных делах, хранящихся в Государственном архиве Хабаровского края.
Книга снабжена обширным научно-справочным аппаратом.
Для преподавателей и студентов вузов, широкого круга читателей.
«…сын Музы, Аполлонов избранник…». Статьи, эссе, заметки о личности и творчестве А. С. Пушкина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Напомним, что в Харбине День русской культуры проводился с 1924 года вплоть до середины 1940-х годов. Ежегодные сборники, представлявшие своего рода отчет о проведенных культурных мероприятиях, редко выходили без редакторской работы К. И. Зайцева. Юрист по основному образованию, он прекрасно разбирался в философских и богословских учениях. Одновременно он был замечательным педагогом. Недаром именно по его инициативе в Педагогическом институте были организованы «открытые лекции» для всех желающих.
Русская литература, особенно ее классическое наследие, для К. Зайцева, как и для многих других представителей изгнания, была насущной духовной пищей; он постоянно размышлял о творчестве и судьбе наиболее выдающихся писателей, выступал в печати с публикациями о них. Немалая часть известных (и неизвестных) статей К. Зайцева вышла именно в русскоязычной печати Харбина [5]. Публицистика К. И. Зайцева, посвященная Пушкину, Лермонтову, уже знакома (правда, не в полном объеме [6]) современному российскому читателю. Но неизвестны его «китайские» статьи «Памяти Константина Аксакова», «Глеб Успенский», «Князь П. А. Вяземский». Эмигрантская критика в основном была сосредоточена на Пушкине, Лермонтове (в сравнении с Пушкиным значительно меньше); она нередко обращалась к фигурам Гоголя, Достоевского, Толстого, но почти не касалась литературных имен, традиционно отведенных на «периферию» литературы. К. И. Зайцев же необычайно расширял горизонты восприятия и оценки русской литературы, особенно ее «золотого века».
Большую по объему статью о К. Аксакове справедливее было бы отнести к жанру биографического очерка – автор охватывает этапы жизни и творчества этого выдающегося славянофила, не оставляя без внимания даже обстоятельства его рождения, воспитания. Он с любовью пишет о предках К. Аксакова, особо подчеркивает материнскую «начинку» характера и темперамента будущего пламенного публициста. Выделяет в его наследии именно то, что со временем не потеряло своего значения – не поэзию, не критические работы, а исторические опыты. Не будучи профессиональным историком, но наделенный полемическим задором, К. Аксаков как бы расшатал господствовавшее в то время течение исторической мысли. Он создал фундамент, способ мысли, «которые стали с той поры железным инвентарем национально-почвенной историософии славянофильства». К. Аксаков впервые в лапидарной форме дал «общую характеристику духа русского народа и его истории» [7].
К. И. Зайцев трезво оценивает идеи славянофила: «Не разделим мы с ним той силы негодования, которая подымала его против Петра, и его анафематствования Петербурга. Не разделим и того упрощенно-идиллического восприятия древней Руси, которое облегчало ему его полемику с Петровской Россией. Далеки мы от возвеличивания общинного начала в русском земельном строе. А главное, далеки мы от той детски-оптимистической оценки «народа», которая вдохновляла славянофилов на борьбу с петровской Россией и делала их оппозиционерами российской Императорской власти».
К. Аксаков признавался, что объект его бескорыстного служения – Истина и Отечество. Но всегда ли в унисон говорят истина и отечество? Для восторженного славянофила «отечество» в вопросе обладания Истиной сливалось с «народом», покрывалось «народом» – и именно простым народом. Вот такого двусмысленного «народничества», безоглядного «народолюбия» К. И. Зайцев не приемлет в Аксакове, не приемлет именно то, что славянофилы «идеализировали народ и создавали из него кумира, ища в нем сосредоточения Истины». И все же, несмотря на народнический утопизм в принципах К. Аксакова, он современен, ему принадлежат «золотые мысли», «которые до сих пор остаются программными лозунгами русского национального самосознания».
Очерк «Памяти Константина Аксакова» и двумя годами ранее напечатанная юбилейная статья «Глеб Успенский» близки по проблематике. «Тот, кто не знаком с Успенским, не может сказать, что он знает русскую литературу» – таков тезис К. И. Зайцева, который, в свою очередь, перерастает в мысль о том, что «не только, однако, не может сказать о себе тот, кто не знаком с Успенским, что он знает русскую литературу: не сможет он сказать, что знает и русскую действительность!» И если К. Аксаков дал формулу русского национального самосознания, то Г. Успенский – самое очевидное воплощение «болезни русской совести», «которая угнетала и поедала лучшие душевные силы русской интеллигенции второй половины девятнадцатого века» [8].
Публицистика К. И. Зайцева наделена четко выраженной мировоззренческой установкой, о чем он писал в статье «Борьба за Пушкина» [9]. Именно «борьба», потому что он категорически не приемлет тех методов изучения наследия Пушкина, которые, которые по его мнению, установились в Советской России. Пропаганда, «наукообразная мертвечина», развернутая вокруг имени классика и его произведений – это часть борьбы мировоззрений, которая идет «в настоящее время во всем мире на всех фронтах, в самых маловероятных формах, в самых неожиданных сочетаниях». Советская власть прославляет Пушкина как предтечу советского строя, тем самым искажая самую идею личности и творчества поэта, как она сложилась в сознании нескольких поколений. Творчество Пушкина – бесспорная ценность «национальной России», по представлению К. И. Зайцева, нещадно фальсифицируется и искажается. Тут справедливее было бы говорить о «столкновении» «мировых сил». Поэтому, употребляя предложенное П. В. Струве словосочетание «зарубежная Россия», Зайцев мечтает об объединении всех «в боевую семью» – под знаменем Пушкина, «как бесспорным для всех наглядным и каждому понятным символом той России, к которой считают себя принадлежащими все русские эмигранты, без различия политических оттенков». Именно на эмиграции лежит ответственность за ответ на вопрос: кто же такой был подлинный Пушкин? Каково было его истинное лицо?
Иностранный читатель, полагает Зайцев, чаще всего ждёт от русской литературы «проблематики», «экзотики, мятежности, борения, изощренного новаторства, чего-то дразнящего нервы, тревожащего дух». Не найдя всего этого у слишком классического нашего Пушкина, отворачивается от него. Ему трудно понять, что Пушкин – «воплощенное душевное равновесие, спокойствие». Барьер между произведениями Пушкина и иностранными читателями остается непреодолимым и, по-видимому, с этим необходимо смириться. Иностранец «по общему правилу, не чувствует Пушкина, равно как он не чувствует и величайшего русского композитора Глинку, родственного по духу Пушкину». В этом заключается не только проблема Пушкина, но проблема всей России. Ведь «исторической реальностью является только пушкинская Россия». Великие русские писатели, включая Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и А. П. Чехова, в своих произведениях воспроизводили «некий уклон русского духа», изображали Россию историческую в ее бытовых и духовных проявлениях. Россия Чехова – это «Россия на ущербе». Достоевский «гениально-фантастически» показывает происходящую в недрах России борьбу духа, чуждаясь «бытовой» России. Историческая Россия переносится Толстым на полотнища его величественных «романов-рек» – «лишь для того, чтобы стать предметом позднейшего отказа от них. «Толстой в целом есть своего рода интеллигентски-сектантское “самосожжение” исторической России». Один только Пушкин воплотил в своем творчестве Россию «во всей ее индивидуально-исторической конкретности». «Пушкин – наше всё», все остальное – «произвольная стилизация, а иногда и подлинная фантастика».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: