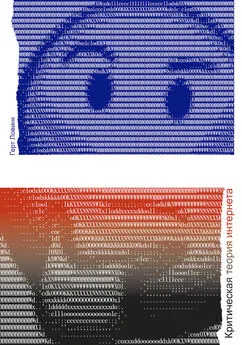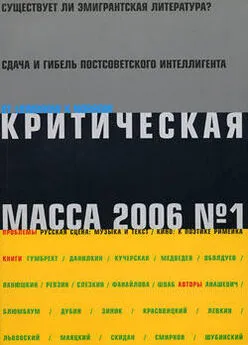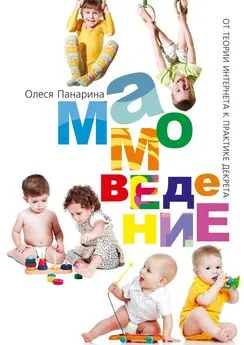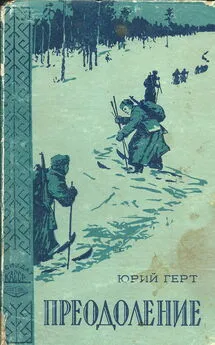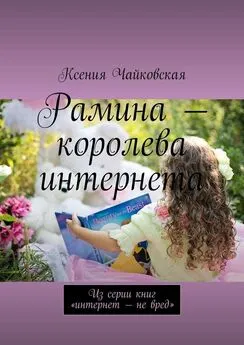Герт Ловинк - Критическая теория интернета
- Название:Критическая теория интернета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-498-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Герт Ловинк - Критическая теория интернета краткое содержание
В этом сборнике представлены критические работы последних пятнадцати лет, вышедшие в англоязычных изданиях «Zero Comments» (2007), «Networks without a Cause» (2012), «Social Media Abyss» (2016), а также совсем свежие тексты в ранней авторской редакции, которые впоследствии вошли в новый сборник эссе «Sad by Design» (2019). Они во многом перекликаются, хотя условно разделены на три блока: если первые пять текстов так или иначе вращаются вокруг вопроса о влиянии социальных медиа и смартфонов на саму природу социального, то вторая часть – также из пяти текстов – в большей степени посвящена конкретным примерам цифровой повседневности: трансформации жанра комментария, субъективности эпохи селфи, цифровому детоксу, технике запросов. Последние три эссе – политико-теоретические интервенции, в которых Ловинк обсуждает формы социальной организации и политической практики, – те самые тактические медиа и организованные сети, а также вступает в полемику с другими актуальными концепциями медиа.
Критическая теория интернета - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то, что социология как исследовательская дисциплина все еще с нами, вышеописанная «облитерация социального» повлияла на преуменьшение важности социальной теории в дискуссии, посвященной критике интернета. В противовес этой тенденции веб-социология, освобождающая себя от дихотомии «реальное-виртуальное» и отказывающаяся от сужения исследовательского поля до «социальных импликаций развития технологий» (например, до исследования интернет-зависимости), может сыграть ключевую роль в исследовании того, как сегодня (более, чем когда-либо) переплетены классовый анализ и медиатизация. Как написала мне по этому поводу Ева Иллуз: «Если традиционно социология взывала к нашей проницательности и бдительности в искусстве проводить различения (между потребительской стоимостью и меновой стоимостью, жизненным миром и колонизацией жизненного мира [32]и т. д.), то вызов, который сегодня лежит перед нами, – это упражнение в той же бдительности в социальном мире, который раз за разом разрушает эти различения» [33]. Амстердамский пионер веб-социологии, редактор SocioSite Альберт Бенсхоп предлагает в целом преодолеть различие между реальным и виртуальным. Адаптируя классическую в социологии теорему Томаса, Бенсхоп заявляет: «Если люди определяют сети как реальные, они реальны в их последствиях». Другими словами, для Бенсхопа интернет – это не просто какой-то второсортный мир. Его материализованная виртуальность оказывает воздействие на нашу реальность. То же самое применимо и к социальному. Не существует второй жизни с альтернативными социальными нормами и обычаями. Согласно Бенсхопу, поэтому же нет, строго говоря, необходимости в создании какой-то дополнительной дисциплины [34]. Вопрос о форме социального затрагивает всех нас, он не должен обсуждаться – и присваиваться – только группой гиков и стартап-предпринимателей.
Здесь мы сталкиваемся с главным отличием старой системы медиа, основанной на технологии вещания, от современной парадигмы социальных сетей. Социальные медиа избавились от «людей-кураторов», работавших в «старых медиа», и взамен потребовали от нас постоянного вовлечения посредством кликов. Но машины не создадут для нас жизненно важных связей, сколько бы мыслей и аффектов мы им ни делегировали и вне зависимости от наших попыток раздуть социальный капитал. Мы переключаемся в состояние «интерпассивности», о котором пишут, например, Пфаллер, Жижек и ван Ойнен [35]. Но этот концепт все еще остается преимущественно дескриптивным и не применимым для анализа. Он не может поставить под вопрос существующие архитектуры и культуры использования социальных медиа. Дальнейшая критика этих аспектов обусловлена не только подавленной романтической офлайн-сентиментальностью. Люди вполне правомерно испытывают ощущение перегрузки, причем не просто информацией вообще, но и конкретно информацией о жизни других людей, – в той степени, в какой этого требует идея обязательной регистрации в партиципаторных медиа. Нам всем время от времени нужен антракт в этом социальном цирке (хотя кто может себе позволить бесконечно обрывать связи?).
Определение «персонального» по отношению к «социальному» соответствующим образом перерабатывается. «Социальное» в социальных медиа требует от нас восприятия нашей личной истории как чего-то, с чем мы смирились и что преодолели ради участия в социальной жизни в интернете (подумайте о семейных связях, соседях в деревне или в пригороде, школе и колледже, коллегах по работе и знакомых по церкви); в то же время предполагается, что в рамках сегодняшних исторических форм «Я» мы должны проявлять гордость и представлять себя в лучшем свете – и иногда даже любить кичиться собой. Социальный нетворкинг проживается в формате актуальной потенциальности: я мог бы связаться с тем или иным человеком (но я не буду). С этого момента я буду рассказывать о том, какой бренд предпочитаю (хотя меня никто не спрашивал). Социальное – это коллективная способность представлять связанных субъектов как временный союз. Сила и важность того, что потенциально может значить общение со многими, многими же и ощущается.
Хайдеггеровское «мы не зовем, нас зовут» здесь работает вхолостую [36]. В сети боты контактируют с тобой напрямую, обновления статусов других людей, актуальные или нет, пролетают мимо и пробиваются через фильтр, как бы ты его ни настраивал. В Facebook невозможно быть отшельником. Ты получаешь запросы на добавления в «друзья» без всякого смысла. Для пассивного получателя нарушение работы фильтра большое событие. Как только ты оказался внутри бурлящего потока социальных медиа, Зов Бытия исходит от софта и приглашает тебя ответить. Здесь пафосному и расслабленному постмодернистскому безразличию как квази-подрывному типу поведения приходит конец. Потому что плевать на все тут так же бессмысленно, как и не плевать. Мы все равно не друзья. За нас так решили алгоритмы. Так зачем оставаться в Facebook? Забудьте Twitter. Удалите WhatsApp. Это сильные заявления, но они устарели. Мы уже не в 1990-х. Никто не может занять тупую позицию суверена и оставаться равнодушным по отношению к социальному. «Молчание масс», о котором говорил Бодрийяр, само по себе кажется странной утопией. Социальные медиа были ловким ходом, который заставил людей трещать без умолку. Нельзя забывать об аддиктивной стороне социальных медиа. Нас всех перезапустили. Непристойность банальных мнений и повседневная проституция на подробностях нашей личной жизни сегодня надежно встроены в софт и вовлекают миллиарды пользователей, которые не знают, как соскочить. Есть ли способ выйти из социального так, чтобы этого никто не заметил?
Пример такого выхода, который Бодрийяр приводил раньше, – опрос общественного мнения, подрывающий аутентичное существование социального. Таким образом, Бодрийяр подменил печальный взгляд на массы как на отчужденную сущность ироническим и сфокусированным на объекте. Сегодня, на тридцать лет глубже в эпоху медиа, даже это видение стало интериоризированным. В эпоху Facebook опросы постоянно фиксируют наши предпочтения даже без прямого участия пользователей с помощью тщательно спрограммированного дата-майнинга. Эти алгоритмические подсчеты постоянно происходят где-то на заднем плане и записывают все: отдельные клики, ключевые слова и даже прикосновения к клавиатуре. Для Бодрийяра это «позитивное всасывание в прозрачность компьютера» [37]– хуже, чем отчуждение. Общество превратилось в базу данных пользователей. «Злому гению социального» не остается никаких возможностей для самовыражения, кроме как вернуться обратно на улицы и площади, где его отслеживает и направляет множество точек зрения, производимое нашими твитящими смартфонами и все записывающими цифровыми камерами. У «субъекта как пользователя» вариантов еще меньше: ты можешь вставить то, что кажется речью, в окошко для комментариев или оставаться луркером, случайным наблюдателем, тогда как человек с по каким-то причинам девиантным поведением называется троллем. Во многом так же, как Бодрийяр реинтерпретировал данные опросов общественного мнения как незаметную месть простых людей политической системе и системе медиа, нам нужно сегодня поставить под вопрос объективную истину, которую производят операции с большими социальными данными, осуществляемые «стеками» (термин для Microsoft, Google, Apple и Facebook, предложенный в 2012 году Брюсом Стерлингом [38]). Пользователям, окруженным огромным количеством фейковых и неактивных аккаунтов, помогает армия ответственных и трудолюбивых ботов. Значительное количество трафика производится взаимодействиями между самими серверами, без какого-либо участия пользователей. Это то, с чем объектно-ориентированной философии еще придется поработать, – критика бесполезной и пустой контингентности [39].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: