Михаил Вайскопф - Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях
- Название:Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Вайскопф - Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях краткое содержание
Красный чудотворец: Ленин в еврейской и христианской традициях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
"Унывать тут нечего. Человечество, создавшее Ленина, создаст и новых Лениных" (51).
Марксистско-богостроительский и пролеткультовский принцип количественного эквивалента, замены дополнен христианской моделью причащения усопшему. Теперь не Ленин предстает неотъемлемой частью партийного организма, как это было у Кольцова, а сама партия становится мистическим телом Ильича. Но обычная христианская символика соборного тела Христова вовсе не имеет и не может иметь компенсаторного характера – "тело" это не замещает собой ушедшего Иисуса, а томится по грядущему воссоединению с Ним. У большевиков же сквозь евангельские соматические реминисценции пробивается мощный языческий напор. В сущности, литургической архаикой преисполнены и составленное Бухариным траурное обращение ЦК от 22 января ("Ленин живет в душе каждого члена нашей партии. Каждый член нашей партии есть частичка Ленина"), и проповедь Троцкого:
"Наша партия есть "ленинизм", наша партия есть коллективная воля трудящихся. В каждом из нас живет частичка Ленина, то, что составляет лучшую часть каждого из нас.
Как пойдем вперед?
С фонарем "ленинизма" в руках.
Найдем ли дорогу?
Коллективной мыслью, коллективной волей партии – найдем" (52).
Не так ли египетская Исида собирала, отыскивая по частям, тело Осириса, чтобы зачать от него державного Гора? Напрасно Троцкий и Бухарин противились идее бальзамирования вождя, исходившей от Сталина (53), который обладал более мощным религиозным инстинктом и чувством преемственности культов. Мумифицирование фараонов соответствовало стадии этого собирания Осириса – как теперь бальзамирование Ленина символически сопутствовало сплочению крепнущего партийно-государственного организма.
По словам современных исследователей, "решение о сохранении тела Ленина, принятое в узком кругу его ближайших соратников, полностью отвечало настроению самых широких масс. Что бы ни говорили номенклатурные марксисты-догматики, нетленное тело Ленина было символом стабильности, в которой в тот момент было заинтересовано как руководство, так и рядовые граждане, уставшие от потрясений революции и гражданской войны" (54).
Наряду с канонизацией покойного лидера, полным ходом развертывается сакрализация самой партии – вернее, ее аппарата – как коллективного престолонаследника, расширившего теперь свою социальную базу за счет "ленинского призыва". Весьма чуткий к таким жреческим веяньям Луначарский сразу откликнулся на эту послеленинскую тенденцию, щедро приписав прерогативы Творца, сотворившего мир ех nihilo, большевистской партии, которая уже замещает у него и пролетариат, и горьковский "народушко": "Она из ничего создала Красную Армию" (55).
Двойное обожествление – и Ленина, и наследующей ему партии – приводило к любопытным теологическим парадоксам, о которых мы вкратце говорили: будучи детищем РКП, вождь одновременно представал в ореоле ее родителя. На траурных митингах звучал лозунг: "Да здравствует его пер¬венец – Российская коммунистическая партия!" (56) Ощущение сиротства, пишет Такер, "нашло образное выражение в заго¬ловке одной из статей "Правды" за 24 января, названный коротко:
"Осиротелые". В том же номере была напечатана статья Троцкого, спешно переданная с Кавказа по телеграфу. "Партия осиротела, – говорилось в ней. – Осиротел рабочий класс. Именно это чувство порождается прежде всего вестью о смерти учителя, вождя". В редакционной статье, написанной Бухариным и озаглавленной "Товарищ", присутствовал ана¬логичный образ. "Товарищ Ленин, – писал Бухарин, – ушел от нас навсегда. Перенесем же всю любовь к нему на его родное дитя, на его наследника – на нашу партию" (57).
Если же он изображался в облике Сына, то всячески педалировалась его несокрушимая вера в родительские "массы". На деле, как мы знаем, Ленину действительно была присуща революционная вера – но не столько в какие-то косные и ненадежные толпы, сколько в неминуемую победу их большевистского руководства, вопреки социал-демократическим скептикам. Говоря о "массах", например, на III конгрессе Коминтерна, он подчеркивал релятивистскую зыбкость, аморфность и условность этого термина ("Понятие "массы" – изменчиво, соответственно изменению характера борьбы"). Вместо того, чтобы веровать в них, он, напротив, стремился привить самим массам веру в социализм. "Мы пробудили веру в свои силы и зажгли огонь энтузиазма в миллионах и миллионах рабочих всех стран", – с гордостью заявил он в заметке "Главная задача наших дней" (1918).
Каменев рисует неизмеримо более благостную картину, подернутую нежной евангельской дымкой. Изображая нечто вроде одинокого томления Ильича на Елеонской горе, он, в качестве утешительного контрапункта, вводит тему этой его смиренной веры в "массы", которые, однако, незамедлительно отождествляются у него с самой партией:
"Он никогда не боялся остаться один, и мы знали великие поворотные моменты в истории человечества, когда этот вождь, призванный руководить человеческими массами, когда он был одинок, когда вокруг него не было не только армий, но и группы единомышленников ‹…› Он был один, но он верил… он жил великим доверием к массам. Единственное, что не оставляло его никогда, – это вера в творчество подлинных народных масс ‹…› Он никогда не говорил: "я решаю", "я хочу", "я думаю", он говорил: масса хочет, масса решает, партия хочет, партия решает'".
В переводе на стилистику оригинала это значит: "Отче Мой! ‹…› да будет воля Твоя" (Мф. 26: 42); "не чего Я хочу, а чего Ты" (Мк. 14: 36) (58). Всю эту гефсиманскую картину панегирист, несомненно, проецирует на свое собственное многократное отступничество от Ленина в 1917 г.: против него он выступил сперва весной (вместе со Сталиным и большинством ЦК), затем в сентябре (снова с большинством ЦК), в октябре (вместе с Зиновьевым) и наконец, в ноябре, после переворота (совместно с Зиновьевым и множеством других лидеров партии). В новозаветном аллюзионном контексте Каменев предстает неким перевоплощением своего нестойкого тезки – св. Петра (petros – камень, скала), который в роковую ночь сперва не захотел (как и другие апостолы) бодрствовать с одиноким Учителем, а потом трижды от него отрекся. Вчерашний "штрейкбрехер" хочет растворить свою индиви¬дуальную вину в общебольшевистской "Гефсимании", поясняя, что не только он с Зиновьевым, но и все прочие комму¬нисты в критическую минуту не раз покидали Ильича. Но, должно быть, самым драматическим выглядело теперь для Каменева следующее обстоятельство. В октябре 1923 г. умирающий Ленин последний раз посетил Кремль – но не встре¬тил никого из своих соратников: Каменев, его заместитель по Совнаркому, распустил их по домам, чтобы предотвра¬тить любое общение с вождем (59).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

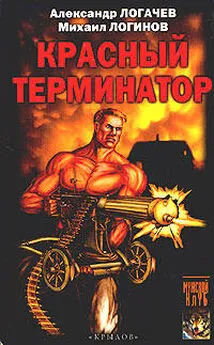


![Михаил Вайскопф - Писатель Сталин. Язык, приемы, сюжеты [3-е изд.]](/books/1143106/mihail-vajskopf-pisatel-stalin-yazyk-priemy-syuzhety-3-e-izd.webp)

