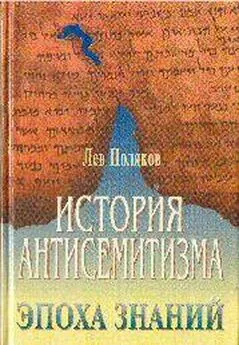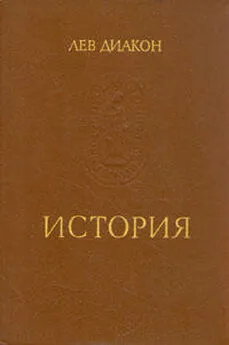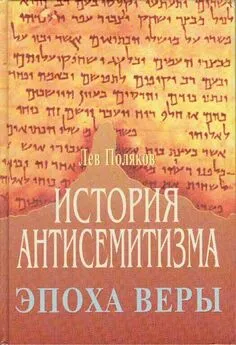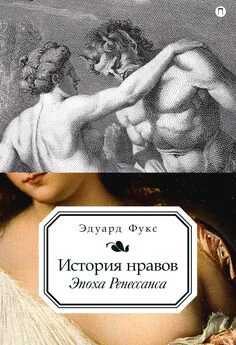Лев Поляков. - История антисемитизма.Эпоха знаний
- Название:История антисемитизма.Эпоха знаний
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Поляков. - История антисемитизма.Эпоха знаний краткое содержание
Фундаментальный труд знаменитого французского историка российского происхождения профессора Льва Полякова, автора многочисленных трудов по истории Холокоста и антисемитизма. Двухтомная монография посвящена истории антисемитизма от древнейших времен до середины XX столетия и подробно рассматривает историю взаимоотношений евреев с окружающими народами, анализируя корни ксенофобии и вызванных ею катастроф. Объект исследования автора – столкновения и взаимовлияние культур на протяжении двух тысячелетий.
История антисемитизма.Эпоха знаний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Сам Доде сформулировал свою главную мысль следующим образом: «Эта книга… по-своему продолжает «Еврейскую Францию» великого Дрюмона». Становится ясно, что раввин Морис Либер не ошибался, утверждая, что вопреки протестам Шарля Морраса «Аксьон Франсез» в действительности ни на йоту не отступила от своей антиеврейской линии.
Совсем иначе обстояло дело с Морисом Барресом, бывшим ранее воинствующим антисемитом, и его пример в большей степени характеризует поведение лагеря националистов и противников Дрейфуса в целом. За единственным исключением, которое относится как раз к ноябрю 1917 года и к которому мы еще вернемся, Баррес строго соблюдал «священный союз» и даже занялся пересмотром своей политической антропологии, очистив ее от биологического фатализма. Он разработал концепцию «духовных семейств Франции», которые проявляли одинаковую, не подлежащую определению мистическую любовь к матери-родине независимо от того, были ли они социалистами или роялистами, религиозными или светскими.
В своих статьях в «L'Echo de Paris», опубликованных в конце 1916 года, Баррес остановился на «израильской духовной семье», сделал обзор славных боевых подвигов еврейских воинов, были ли они верующими или атеистами, французами или иностранцами. Вероятно, следует особо отметить, что этот перечень героических деяний открывается самопожертвованием такого исключительного деятеля, каким был русский сионист Амедей Ротштейн, погибший «на службе тем, кого он любил больше всего, но с кем старался не смешиваться. – Это одно из бесчисленных испьгганий Вечного жида». Но этот случай, несмотря на всю его проникновенность, оставался исключением – общее правило Баррес отныне формулировал следующим образом:
«Всем нам в своей деревне, в своем маленьком мирке следует перестать делить друг друга на католиков и протестантов, социалистов и евреев, Внезапно обнаружилось нечто очень важное, что объединяет всех нас. Мы французы! Мы представляем собой поток Франции, который готов прорваться в длинный туннель, наполненный усилиями и страда-ниями(…) Национальная честь восстановлена, То, что произошло, не могло не произойти».
«Всегда раввин будет готов принести распятие, а поможет ему в этом аббат», – продолжал этот апостол французского национализма. В данном случае он имел в виду эпизод, произошедший в августе 1914 года и ставший главным символом священного союза: войсковой раввин Абраам Блок, пытаясь облегчить агонию солдата-католика, принес ему распятие и сам был смертельно ранен в тот же момент. Теперь невозможно представить весь размах откликов на этот поступок как во французской прессе, так и в газетах Швейцарии, Канады и Мексики. Некоторое время спустя бомбардировка Реймского собора дала возможность синагоге закрепить патриотический пакт с католической церковью, и обмен письмами между великим раввином Франции и архиепископом Реймса был встречен почти так же горячо, как и самопожертвование раввина Блока. Было множество других разнообразных свидетельств межконфессионального союза – от модных проповедников до скромных деревенских кюре и полковых священников, так что за некоторыми исключениями с этих пор французское духовенство проявляло все больше симпатий к Израилю. Через двадцать лет после сражений в связи с делом Дрейфуса Франция, над которой, как казалось, навис постоянный риск рецидива, стала единственной из великих воюющих держав, в которой, по крайней мере на уровне общественной жизни, священный союз соблюдался почти в полном объеме.
Посмотрим теперь, как это перемирие соблюдалось самими военнослужащими, т. к. известно., какая пропасть отделяла их от остального народа – действовало ли в этой сфере «окопное братство» на все сто процентов? В этой связи следует вернуться к классическому делению евреев на «местных» и иностранных, поскольку во Франции это деление всегда особенно ярко проявлялось. Во время войны оно еще более усилилось по объективным причинам: французские евреи призывались на фронт обычным способом, иностранные евреи в своем большинстве записывались добровольцами – но меньшая их часть (менее тридцати процентов), не явившаяся на призывные пункты, стала воплощать «евреев» как таковых, особенно в глазах населения столицы. Не без некоторой семантической изысканности депутат от Парижа Жозеф Дене так описывал этот «космополитический сброд»:
«Есть тысячи здоровенных парней, псевдорусских, псевдогреков, псевдорумын, псевдополяков, псевдоиталъянцев, а также испанцев, армян и т. д., которые прежде всего стремятся избежать военной службы. Эти люди заполонили наши жилища, не платят за проживание, получают пособия по безработице, питаются в общественных столовых и оскорбляют женщин, чьи мужья и сыновья сражаются на фронтах. Долго ли будет продолжаться это безобразие?»
В результате подобных разоблачений наиболее многочисленная категория этих «псевдо», а именно русского происхождения, которым из-за «иудейского вероисповедания» был закрыт нормальный доступ в русское посольство, были в июле 1915 года препровождены в полицейские комиссариаты для выяснения их статуса. Этот контроль (причем следует напомнить, что в Германии «перепись евреев» 1916 года распространялась абсолютно на всех евреев) вызвал панику среди иностранных евреев и побудил многих из них покинуть Францию, Что касается добровольцев, то сначала их направляли в Иностранный легион, где их участь не была особенно завидной, в конце концов они добились права служить в регулярной армии и поспешили воспользоваться этим правом.
С другой стороны, создается впечатление, что антисемитизм в том виде, как он проявлялся во французской армии в 1914-1918 годах, относился в гораздо большей степени к унтер-офицерам, чем к рядовым. По этому поводу мы располагаем двумя замечательными свидетельствами, принадлежащими Анри де Монтерлану и Пьеру Дрие Ла Рошелю, которые благодаря контрасту между собой как нельзя лучше взаимно дополняют друг друга со всех точек зрения.
В 1927 году Монтерлан, решивший зафиксировать на бумаге свои воспоминания об одном странном случае, написал очерк «Маленький еврей на войне». В нем он рассказал о добровольце 1918 года по имени Морис Лейпцигер (чье настоящее имя было Морис Даниигер), который был на два года моложе его и однажды спас его из затруднительного положения во время бомбежки. В дальнейшем «Лейпцигер» стал его неразлучным другом; если следовать описаниям автора очерка, то этот смелый, образованный и готовый прийти на помощь еврей обладал всеми достоинствами за исключением хороших манер. Оба его старших брата были убиты на фронте, и его самого ждала та же судьба. Тем не менее он оставался «Лей-гшигером, жителем Лейпцига, т. е. немецким евреем». И несмотря на всю близость их отношений Монтерлан со всей очевидностью не мог избавиться от подозрений по поводу его соплеменников:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: