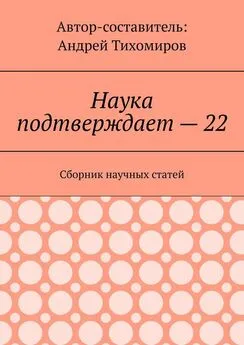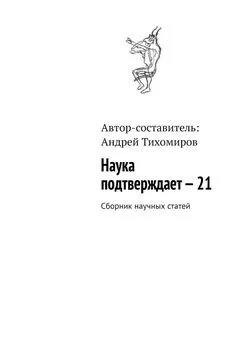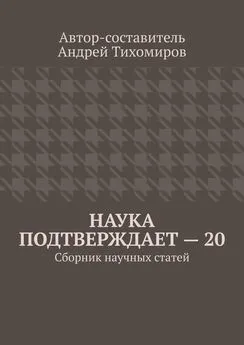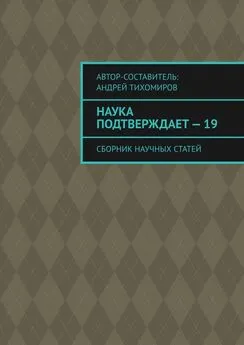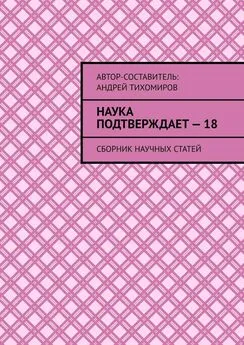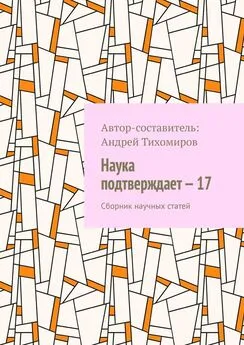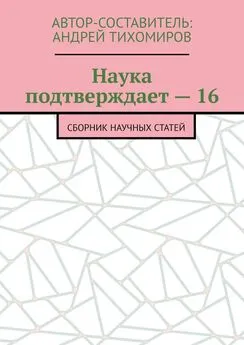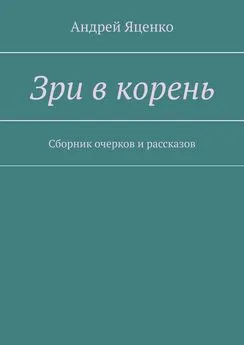Андрей Белый - Проблема культуры (сборник очерков и статей)
- Название:Проблема культуры (сборник очерков и статей)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Проблема культуры (сборник очерков и статей) краткое содержание
«Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность» — эти положения, сформулированные Белым в очерке «Проблема культуры», вошедшем в первую книгу трехтомника — «Символизм», легли в основу многих его работ.
Сборник статей и очерков.
Проблема культуры (сборник очерков и статей) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наоборот, в гносеологии и психологии такое отношение формы к содержанию невозможно; гносеология и психология отправляются от данности; в первом случае предполагается данность материала познания и данность познавательных принципов; во втором случае признается данность физического и психического ряда.
Теория знания конструирует содержания (объекты) из познавательных форм; но тогда форма ее повисает в пустоте; через представление о форме как норме теоретический разум становится практическим, а идея разума превращается в идеал; идеал же есть существо, адекватное идее, т. е. нечто, заключающее форму и содержание в неразложимом единстве. Требование единства ведет к метафизическому определению его как единства, заключающего в себе форму и содержание.
Мы уже знаем условность такого определения; мы знаем и гносеологическую его несостоятельность: но мы знаем еще большую условность того, что называют действительностью научного определения; знаем гносеологическую несостоятельность самой гносеологии; клин вышибаем мы клином; но мы помним, что этот метафизический клин неизбежен, что он определяет искание ценности в другом; и мы его принимаем как эмблему, приближающую нас к Символу.
Так мы понимаем неизбежность метафизической проблемы; мы понимаем и неизбежность для метафизики вращаться все в том же роковом круге противоречий, из которых единственный выход — к понятию о Символе. {10}
Мы видим широковещательность бывших метафизических систем; мы видим последующий крах метафизики; но мы обязаны совершить неприятную для самолюбия разума переправу чрез метафизику, помня, что узкие врата приводят нас к спасительной свободе.
Символическое единство есть единство ряда познаний в ряде творчеств; но уже при метафизическом определении этого ряда мы раскалываем единство.
Все то же единство венчает лестницу творчеств, являясь нам в образе и подобии человека; вот почему лестница человеческого творчества оканчивается уподоблением человека этому единству; говоря языком религий, творчество ведет нас к богоявлению; мировой Логос принимает Лик человеческий; вершина творчества указывается словами Апокалипсиса: «Побеждающему дам сесть со Мной на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом на престоле Его». И потому-то, определяя теургию со стороны метафизики, мы скажем, что задача ее — метафизическое единство явить в образе человеческом (в Лике) — слово (принцип) претворить в плоть (в содержание нашей деятельности); на образном языке это значит: Слово претворить в Плоть. Вот как об этом говорит апостол: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». И еще: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши, о Слове жизни».
Лестница творчеств, Символ являя во Плоти, самые метафизические определения подчиняет теургической практике.
Как только мы пытаемся эмблематически представить единство в ряде познаний и в ряде творчеств, оно уже является нам двойственным; самое выражение «Слово, ставшее Плотью» обрекает нас на двойственность; всякое вообще суждение о единстве невозможно; всякое суждение состоит из субъекта и предиката. В суждении «Слово есть Плоть» глагол «есть» оказывается связью: двойственность предполагает единство; и потому-то единство, распадаясь на двойственность, являет первую триаду единства; триадность есть первое определение единства; она символ этого единства; потому-то мы символическое единство и называем Символом, что изображаем его как триаду.
Эта триада (Есть, Слово, Плоть) — Символ. То, что утверждается Символом, есть единство Слова и Плоти; отсюда метафизически понятно, что во всяком суждении мы встречаемся, по Риккерту, с четырьмя элементами: 1) субъектом, 2) предикатом, 3) связью, 4) категорическим императивом (утверждением). Суждение «Слово есть Плоть» в сущности принимает следующую форму: «Да будет Слово — Плотью». Символическое обозначение первоначального единства именно в «Да будет»; а потом уже единство распадается на двойственность: «Слово — Плотью».
Все же суждение есть эмблема как символического единства («Да будет»), так и двойственности («Слово — Плотью»), и тройственности («Слово будет Плотью»), и четверичности («Да: — Слово будет Плотью»); в последнем суждении связь «есть» есть связь между единством («Да») и двойственностью (Слово — Плоть). «Есть» одинаково относимо и к «Да» («Да — есть») и; к «Слово — Плоть» (Слово есть Плоть). {11}
Вот почему со стороны метафизики единства становится понятным, что теория знания Риккерта отмечает три конститутивных формы познания: норму (Да), категорию данности (есть) и трансцендентальную форму (Слово — Плоть); и понятно, почему трансцендентальными формами являются и данные нам формы познания (слово, принцип); и данные нам образы действительностей (плоть). Норма, категория данности и трансцендентальные формы суть только необходимые эмблемы теории знания, в которых символизируются единство, двойственность и тройственность; но это — символы. Вся символика единства, какую встречаем мы у Фихте, была попыткой включить это единство в плоскость метафизики. «Философия тожества» Шеллинга так же поступала с двойственностью; метафизика Гегеля обосновывала тройственность в виде закона диалектического развития; основания метафизик Фихте, Шеллинга, Гегеля понятны; но положения этих систем, как систем только метафизических, обрекли попытки Фихте, Шеллинга и Гегеля на полную неудачу: вместо того, чтобы понять символизм всяческой метафизики, они всяческий символизм, наоборот, выводили из метафизики; последствия такой подмены не могли не оказаться чудовищными в свете науки и в свете творчества.
Точно так же, принимая вершину всякой творческой символизации (Богоявление) за нечто само по себе действительное и утверждая эту новую действительность в мире бытия познанием (тогда как она действительна лишь для творчества), разлагали теургическое единство в норме символизации (религии) и в норме морали; в таком освещении область теургии распалась на область творчества религиозных символов (религию), область утверждения этих символов как догматов (теологию) и область этики; попытки систематизировать первую из этих областей вели к всевозможной серии учений о Софии, душе мира и о прочих эмблемах гностической теософии; вторая область превратилась в споры о «Filioque»; третьи область превратилась в учение о нормах поведения. Точно так же неудачи, преследовавшие все виды метафизических единств, разложили метафизику окончательно; и только необходимость ее как связи познавательных форм видоизменила самую метафизику в гносеологию, теорию знания и этику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: