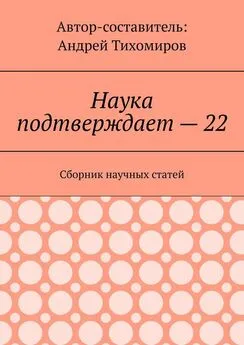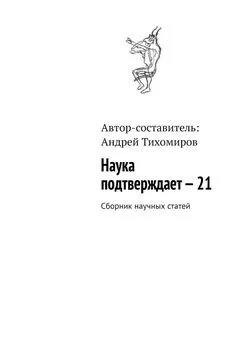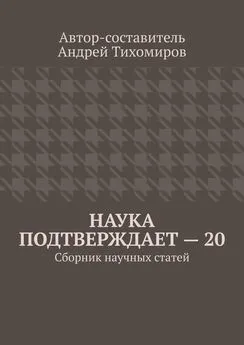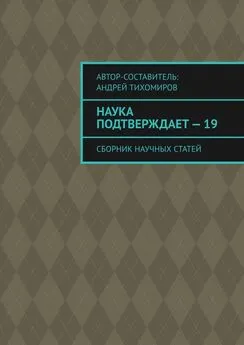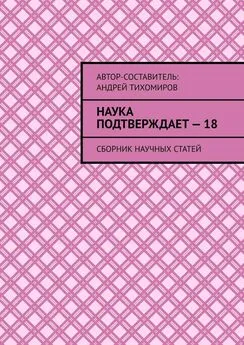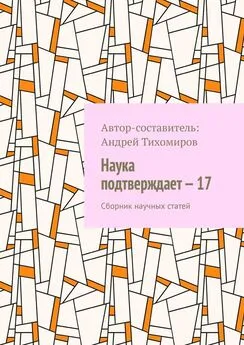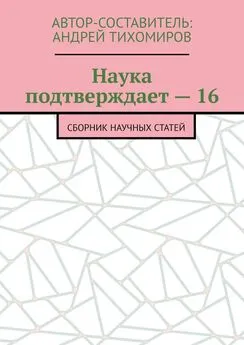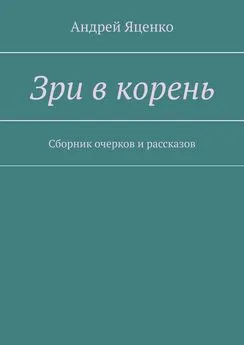Андрей Белый - Проблема культуры (сборник очерков и статей)
- Название:Проблема культуры (сборник очерков и статей)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Белый - Проблема культуры (сборник очерков и статей) краткое содержание
«Последняя цель культуры — пересоздание человечества; в этой последней цели встречается культура с последними целями искусства и морали; культура превращает теоретические проблемы в проблемы практические; она заставляет рассматривать продукты человеческого прогресса как ценности; самую жизнь превращает она в материал, из которого творчество кует ценность» — эти положения, сформулированные Белым в очерке «Проблема культуры», вошедшем в первую книгу трехтомника — «Символизм», легли в основу многих его работ.
Сборник статей и очерков.
Проблема культуры (сборник очерков и статей) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Познание метода творчества подставляется вместо творчества; но творчество прежде познания: оно творит самые объекты познания.
Заключая творчество в существующие формы искусства, мы обрекаем его во власть метода; и оно становится познанием для познания без предмета; «беспредметность» в искусстве не живое ли исповедование импрессионизма? А раз «беспредметность» водворяется в искусстве, метод творчества становится «предметом самим в себе», что влечет за собой крайнюю индивидуализацию отыскать собственный метод — вот в чем цель творчества; такой взгляд на творчество неминуемо приведет нас к полному разложению форм искусства, где каждое произведение есть своя собственная форма; в искусстве водворится при таком условии внутренний хаос.
Если на развалинах храма, видимо рухнувшего, можно создать новый храм, то невозможно воздвигнуть этот храм на бесконечных атомах-формах, в которые отольются ныне существующие формы, не бросив самые формы; так переносим мы вопрос о цели искусства от рассмотрения продуктов творчества к самым процессам творчества; продукты творчества — пепел и магма; процессы творчества — текучая лава.
Не ошиблась ли творческая энергия человечества, выбрав тот путь, на котором образовались ныне пленяющие нас формы? Не нужно ли проанализировать самые законы творчества, прежде чем соглашаться с искусством, когда оно предстает нам в формах? Не суть ли формы эти далекое прошлое творчества? Следует ли и ныне творческому потоку низвергаться в жизнь по тем окаменелым уступам, высшая точка которых — музыка, низшая — зодчество; ведь, опознав эти формы, мы превращаем их в ряд технических средств, леденящих творчество; мы превращаем творчество в познание: комету — в ее искристый хвост, лишь освещающий путь, по которому пронеслось творчество; музыка, живопись, архитектура, скульптура, поэзия — все это уже отжившее прошлое: здесь в камне, в краске, звуке и слове совершился процесс преобразования когда-то живой и уже теперь мертвой жизни; музыкальный ритм — ветер, пересекавший небо души; пробегая по этому небу, жарко томившемуся в ожидании творения, музыкальный ритм — «глас хлада тонка» — сгустил облака поэтических мифов; и миф занавесил небо души, засверкал тысячами красок; окаменел в камне; творческий поток создал живой облачный миф; но миф застыл и распался на краски и камни.
Возник мир искусств как надгробный храм жизненного творчества.
Закрепляя творческий процесс в форме, мы, в сущности, приказываем себе видеть в пепле и магме самую лаву; оттого-то безнадежна наша перспектива о будущем искусстве; мы велим этому будущему быть пеплом; мы одинаково умерщвляем творчество, то комбинируя осколки его в одну кучу (синтез искусств), то раздробляя эти формы до бесконечности (дифференциация искусств).
И тут, и там воскресает прошлое; и здесь, и там мы во власти у дорогих мертвецов; и дивные звуки бетховенской симфонии, и победные звуки дионисических дифирамбов (Ницше), все это — мертвые звуки: мы думаем, что это цари, облеченные в виссон, а это набальзамированные трупы; они приходят к нам очаровывать смертью.
С искусством, с жизнью дело обстоит гораздо серьезнее, чем мы думаем; бездна, над которой повисли мы, глубже, мрачнее.
Чтобы выйти из заколдованного круга противоречий, мы должны перестать говорить о чем бы то ни было, будь то искусство, познание или сама наша жизнь.
Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова пересоздать: для этого мы должны создать самих себя.
И единственная круча, по которой мы можем еще карабкаться, это мы сами.
На вершине нас ждет наше «я».
Вот ответ для художника: если он хочет остаться художником, не переставая быть человеком, он должен стать своей собственной художественной формой.
Только эта форма творчества еще сулит нам спасение.
Тут и лежит путь будущего искусства.
ПРОРОК БЕЗЛИЧИЯ
«Фальк вскочил окончательно взбешенный. Что там такое?»
Такова первая фраза первого по значительности романа Пшибышевского. Таков лаконизм писателя, сумевшего в одной фразе дать материал для определения приемов своего письма. Подлежащее, сказуемое, определение — а между тем все элементы творчества Пшибышевского; одна фраза — и в ней водораздел двух стихий, отделяющий творчество великих писателей середины XIX столетия от писателей конца века; одна фраза — а мы уже чувствуем: что-то произошло.
Что же произошло?
«Фальк вскочил окончательно взбешенный», — и первый абрис литературной физиономии готов. Всмотримся пристально в эту фразу: дано имя героя (Фальк), дана подчеркнутая стремительность внешнего движения (вскочил, а не встал), дана подчеркнутая стремительность движения внутреннего (вскочил не рассерженный, а взбешенный и более того: окончательно взбешенный). И тут, и там и движение тела, и движение души заботливо определены, с точностью взвешены: судорогой мускулов и судорогой душевного движения бросает в нас Пшибышевский, так сказать, с места в карьер.
Но кто же герой, судорожно вскакивающий и судорожно закипающий гневом уже в первой фразе объемистого романа?
Вместо определения героя, вместо описания его наружности, вместо описания места и времени действия просто ничего не говорящее имя Фальк. И вскакивает перед нами этот Фальк прямо, так сказать, в пространстве.
Описание героя, фабула, место и время действия отодвигаются на второй план; все эти подробности бросаются автором потом, вскользь, нехотя: мы должны их ловить все до одной, чтобы самим воссоздать канву изображаемых действий; между тем эта канва у писателей доброго старого времени выдвигалась на первый план, а потом уже после долгих пояснений автора появлялся герой со своими поступками, встреченный Вами, как старый знакомец.
А вот у Пшибышевского прямо из мрака неизвестности на сцену выскакивает какой-то Фальк и начинает перед нами судорожно беситься.
«Он усталый… шел домой. Его знобило». Так начинает он в другом романе.
«Гордон низко наклонился вперед и остановил на Остапе пронизывающий беспокойный взгляд». Так начинается роман «Дети Сатаны». Здесь опять в неизвестное время, в неизвестном пространстве какой-то неведомый Гордон не просто наклоняется, а склоняется низко, чтобы не просто бросить взгляд, а взгляд пронизывающий остановить на каком-то Остапе.
Или: «Черкасский сидел, задумавшись» («Сыны земли»).
И так далее, и так далее…
С места в карьер бросаются на нас герои Пшибышевского, скрежещут зубами, сокращают и выпрямляют мускулы, кидаются на женщин, лобзают и убегают в тьму.
С места в карьер начинают кипеть они гневом, изливаться в жалобах
— и потом расплываются в облако причудливых снов самого Пшибышевского.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: