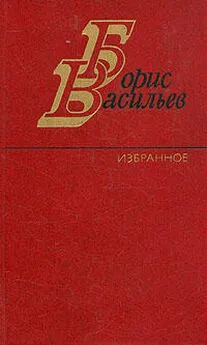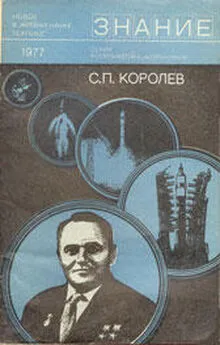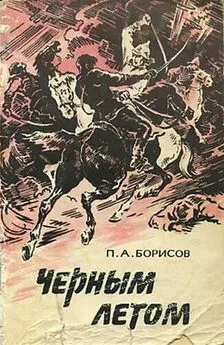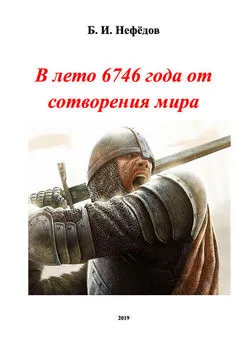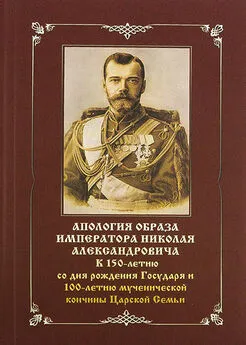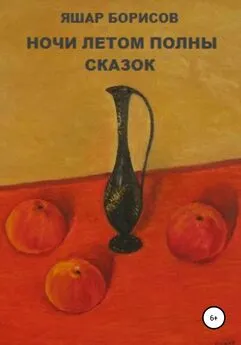Борис Эйхенбаум - К 100-летию рождения Н. Лескова
- Название:К 100-летию рождения Н. Лескова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Эйхенбаум - К 100-летию рождения Н. Лескова краткое содержание
К 100-летию рождения Н. Лескова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К началу шестидесятых годов, эпохи социального кризиса и перелома, не только филология, но и литература сдвигаются на второй план. Идеологические основы старого филологизма, бушевавшего на протяжении всей первой половины века и претендовавшего даже на политическую роль, превращаются в архаизм, Славянофильство теряет свои последние позиции. «Слева» идет литература очерков из народного быта, ни с каким филологизмом не связанная; «справа» экстренно издаются тенденциозно-злободневные романы, не имеющие никакого отношения к проблеме литературного языка. Традиционная «беллетристика» становится рыночной, а ее место начинают занимать исторические книги, мемуары, хроники и пp.
Вот тут-то, на этом историческом грунте, образовавшемся из продуктов разложения старого филологизма и из элементов зарождения новой, деловой литературы, исключительно занятой вопросами социально-экономического переустройства, — на этом грунте является причудливый, «вычурный», почти экзотический цветок Лесковского сказа — как свидетель о том, что период роста этого филологизма кончился и наступила пора цветения, пора заключительная. Принужденный отказаться от «Славяно-русских» идей и борьбы с «гнилым западом», филологизм обернулся своей эстетической стороной — стал виртуозной стилизацией, доходящей до «чрезмерности», до «эксцентричности». Этимология, корнесловие и словопроизводство, оторвавшись от породившей их теории, приобрели новое значение, новую функцию — эстетическую. Лексические различия, хронологические и бытовые, стали тембрами речевого оркестра, подбираемого искусным композитором.
Такой писатель, как Лесков, мог (и должен был) явиться только на основе проделанной раньше огромной филологической работы — от Шишкова и Востокова до Даля, Вельтмана, Снегирева, Сахарова, Афанасьева, Бессонова, Каткова, И. Киреевского, К. Аксакова и др. Все это были не академические ученые, а идеологи-дилетанты, проникнутые пафосом «славянофильства». В борьбе за славяно-русские идеи предпринято было изучение народной словесности и старорусской письменности. Под натиском шестидесятых годов идеи эти, связанные с прежним укладом социально-экономической жизни России, потерпели крах. Старый филологизм послужил основой, с одной стороны, для образования новой академической дисциплины, с другой — для построения новых литературных форм с акцентом на речь, на «сказ». Корни лесковской языковой «чрезмерности» и «эксцентричности» скрываются именно в этой, возделанной трудами и пафосом славянофильских идеологов, почве. Лесков — это эстетическая грань славянофильства, прошедшего до того через все фазы своего исторического движения: от проблем корнесловия и этимологии до проблем социальной политики. Лесков был фазой цветения, фазой ущербной — и именно потому напряженно эстетической.
«Знание языка» не вело Лескова ни к каким филологическим теориям, — как это было у Даля или Вельтмана. Его филологизм весь целиком шел на потребу художеству: его отношение к слову и к языку было насквозь артистическим. Он работает на деталях синтаксиса и лексики; он вглядывается в оттенки каждого слова; у него — особый словесный слух или словесное зрение. Он не столько живописец, сколько мозаист, собирающий и складывающий слова так, что получается иллюзия живой речи, иллюзия голоса и даже иллюзия лица. Ему важно поэтому иметь в запасе возможно большее количество и притом возможно более разнообразных по своей лексической окраске, слов. Ему нужны яркие цвета — поэтому он специально изучает социальные и профессиональные жаргоны: слова диковинные, отдающие стариной или «народностью», для него сущий клад. То, что простой филолог назовет «народной этимологией» («мелкоскоп» или «буреметр») и определит как искажение иностранных слов, окажется в руках Лескова предметом любования и «чрезмерной» игры. Так получается то, что я назвал художественным филологизмом.
Лесков сам неоднократно делился размышлениями о своей работе над языком. Приведу его собственные слова (правда, записанные его не очень даровитым «Эккерманом» — А. Фаресовым): «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя и не сбиваться с альтов на басы. В себе я старался развивать это умение и достиг, кажетея, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты — по-нигилистически, мужики — по-мужицки, выскочки из них и скоморохи с выкрутасами и т. д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Меня сейчас поэтому и узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под ней. Это меня радует. Говорят, что меня читать весело. Это от того, что все мы: и мои герои, и сам я имеем свой собственный голос. Он поставлен в каждом из нас правильно или, по крайней мере, старательно. Когда я пишу, я боюсь сбиться; поэтому мои мещане говорят по-мещански, а шепеляво картавые аристократы — по-своему. Вот это — постановка дарования в писателе. А разработка его не только дело таланта, но и огромного труда. Человек живет словами, и надо знать, в какие моменты психологической жизни у кого из нас какие найдутся слова. Изучить речи каждого представителя многочисленных социальных и личных положений — довольно трудно. Вот этот народный, вульгарный и вычурный язык, которым написаны многие страницы моих работ, сочинен не мною, а подслушан у мужика, у полуинтеллигента, у краснобаев, у юродивых и святош.» О языке своих «Полунощников» Лесков говорил тому же Фаресову: «Ведь я собирал его много лет по словечкам, по пословицам и отдельным выражениям, схваченным на лету в толпе, на барках, в рекрутских присутствиях и монастырях.» О языке «Скомороха Памфилова» он писал С. Н. Шубинскому: «Я над ним много, много работал. Этот язык, как и язык „Стальной блохи“, дается не легко, а очень трудно, и одна любовь к делу может побудить человека взяться за такую мозаическую работу. Но этот-то самый „своеобразный язык“ и ставят мне в вину и заставили меня его немножечко портить и обесцвечивать. Прости бог этих „судей неправедных“». Итак, «постановка дарования» в писателе — это, по Лескову, прежде всего постановка речевая, то есть постановка лексики и тембра или интонации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: