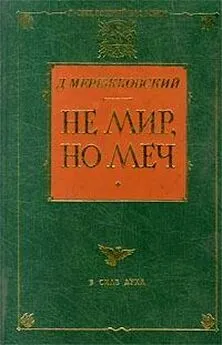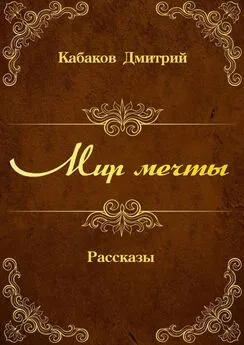Дмитрий Мережковский - Не мир, но меч
- Название:Не мир, но меч
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:966-03-0834-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Не мир, но меч краткое содержание
В данном издании вниманию читателя предлагаются некоторые из наиболее значительных произведений русского писателя, одного из зачинателей русского декаденства, Д.С.Мережковского (1866–1941). В книгу включены статьи, литературно-критические и религиозно-философские исследования автора.
Не мир, но меч - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Кажется, Пушкин, предсказавший всю деятельность Гоголя, гениальным чутьем своим чуял, что деятельность эта не может вместиться в чисто художественном творчестве, что Гоголь создан не для одних «звуков сладких и молитв», но и для какой-то новой «битвы», для какого-то нового, самому Пушкину неведомого действия. «Переписка» и есть первый, еще слабый, потому что слишком ранний, опыт, завещанный Пушкиным русской критике не в старом, узком смысле публицистики, как поняли критику славянофилы и западники Аксаковы, Шевырев, Добролюбов, Писарев, Чернышевский и даже в значительной мере Белинский, а в смысле новом, нашем, как его никто не понимал до нас, — критики, как вечного и всемирного религиозного сознания, как неизбежного перехода от поэтического созерцания к религиозному действию — от слова к делу. Надо было реально испытать этот критический переход, как мы его испытали за последний полувек; надо было увидеть, как мы видели в Л. Толстом и Достоевском, конец русской литературы, т. е. конец чисто художественного, бессознательного, пушкинского творчества («звуков сладких и молитв») и, вместе с тем, начало нового, религиозного сознания, новой «битвы», нового действия, для того чтобы понять все огромное, в этом смысле пророческое значение «Переписки».
В Пушкине была доныне вся Россия; но «нельзя повторять Пушкина», «другие дела начались для поэзии», — вот главная мысль Гоголя-критика. Тут увидел он дальше, чем Достоевский, который все-таки желал повторять Пушкина и не видел за ним ничего.
Друг Пушкина, старик Плетнев, высказал однажды поразительную мысль, как будто внушенную ему из-за гроба вещим другом: «Переписка» есть начало русской литературы. Если заменить здесь слово «литература» словом критика, разумеется, не в старом, а в вечном и новом смысле, то есть в смысле перехода от бессознательного творчества к творческому сознанию, то это и будет наша мысль. В «Переписке» нам слышится именно конец, совершенство, «неповторяемость» Пушкина, т. е. конец всей русской литературы и начало того, что за Пушкиным, за русской литературой, — конец поэзии — начало религии.
«Мне ставят в вину, что я говорил о Боге… Что же делать, если говорится о Боге?.. Что же делать, если наступает такое время, что невольно говорится о Боге? Как молчать, когда и камни готовы завопить о Боге?.. Нет, умники не смутят меня тем, что я недостоин, и не мое дело, и не имею права: всяк из нас до единого имеет это право» (Изд. Кулиша, VI, 373). Вот и до сей поры никем не опровергнутое, неопровержимое право, правота Гоголя. Он первый заговорил о Боге не отвлеченно, не созерцательно, не догматически, а жизненно, действенно — так, как еще никто никогда не говорил в русском светском обществе. Правду или неправду он говорит, неотразимо все-таки чувствуется, что вопрос о Боге есть для него самого вопрос жизни и смерти, полный бесконечного ужаса, вопрос его собственного, личного и общего русского всемирного спасения.
«Дело идет теперь не на шутку», — предостерегает он, — и для него это действительно так. Мудрость ли это или безумие, — он, во всяком случае, не только говорил о Боге, но и делал, по крайней мере, желал сделать, отчасти и сделал для Бога то, о чем говорил.
В духовном завещании обращается к «друзьям своим», т. е. ко всем русским людям: «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом». Это последние слова Гоголя, обращенные к нам: в них весь смысл его жизни, и он имел право их сказать, потому что заплатил за это право жизнью.
Он почувствовал до смертной боли и до смертного ужаса, что христианство для современного человечества все еще остается чем-то сказанным, но не сделанным, обещанным, но не исполненным. «Церковь, — говорит он, — созданную для жизни, мы до сих пор не ввели в нашу жизнь». — «Христиане!.. Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его в домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане».
Христианство не входит в жизнь, и жизнь не входит в христианство: они разошлись и с каждым днем все более расходятся. Христианство оказалось величайшим отрицанием жизни, жизнь — величайшим отрицанием христианства. Христианство сделалось безжизненным, бесплотным, бездейственным, а жизнь, плоть, действие — нехристианскими. Все современное европейское человечество раздирается этим противоречием.
«И непонятною тоскою, — говорит Гоголь, — уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь, все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! Пусто и страшно становится в твоем мире».
Положение России, утверждает Гоголь, ничем не лучше положения западной Европы. «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? — Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней всех их. Хуже мы всех прочих — вот что мы должны всегда говорить о себе». России угрожают те же «страхи и ужасы», как Европе: «Если бы я вам рассказал то, что я знаю, тогда бы помутились ваши мысли и вы подумали бы, как бы убежать из России. Но куда бежать? — вот вопрос. Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там никто еще этого вполне не видит».
И вместе с тем он хотя, повторяю, и не сознает, но зато предчувствует с такою силою, как никто из людей современной Европы, что в христианстве заключена возможность нового соединения, нового синтеза, «возможность примирения тех противоречий, которые не в силах примирить» человечество помимо Христа.
«Церковь, — говорит он, — может произвести неслыханное чудо в виду всей Европы». Она «одна в силах разрешить все узлы недоумения и все вопросы наши». Здесь Гоголь противополагает церковь восточную — западной, впадая таким образом в противоречие с самим собой: он ведь только что сказал, что мы вовсе не лучше, а «хуже всех прочих», что и на востоке, так же как на западе, церковь не вошла в жизнь. Слишком ясно, что в этом смысле одностороннего аскетизма, отречения от жизни, отрицания жизни, подмены святой плоти бесплотною святостью восточное христианство шло тем же путем, что и западное; можно даже сказать, что тень христианской ночи, монашество, распространялось именно с востока на запад, а не с запада на восток. Гоголь под «церковью восточною православною» разумеет не прошлую или настоящую, историческую, а грядущую, сверхисторическую, мистическую церковь христианства воистину вселенского. Недаром И. С. Аксаков утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился разрешить задачу «исполински-страшную», «которой не разрешили все 1847 лет христианства».
Это так: Гоголь, действительно, хотя и в очень редких, но самых светлых точках религиозного сознания своего противополагал свой собственный взгляд на Христа всему историческому христианству, как западному, так и восточному.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: