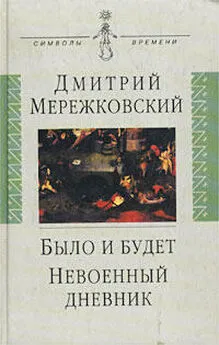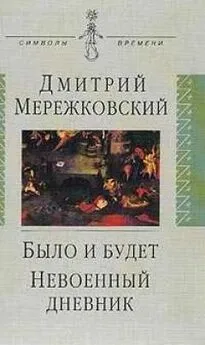Дмитрий Мережковский - Невоенный дневник. 1914-1916
- Название:Невоенный дневник. 1914-1916
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мережковский - Невоенный дневник. 1914-1916 краткое содержание
Невоенный дневник. 1914-1916 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Allach akbar — Бог велик» — таково единственное откровение ислама. Бог велик и един. Нет Бога, кроме Бога. «„Ислам“ значит покорность Богу. Мы должны покоряться Богу. Вся наша сила заключается в покорном подчинении Богу, во всем, что Он ниспослал бы нам, как в этом, так и в другом мире. Все, что Он посылает нам, будет ли это смерть, или что-либо еще хуже, чем смерть, мы должны принимать за благо; мы предаем себя на волю Божью» — так определяет Карлейль сущность ислама. «Если это ислам, то не живем ли мы все в исламе», — спрашивает Гёте.
Нынешний политический, а, может быть, и больше, чем политический, союз Германии с Турцией — всемирно-историческое осуществление Гётева пророчества о «Западно-Восточном Диване» (Westostlicher Diwan) — союз мусульманского Ближнего Востока с протестантским Средним Западом.
Ислам — «реформация» семитов, реформация — «ислам» арийцев. Два ислама, две реформации — метафизически — соответственные, обоюдные: обе — движение назад, возвращение, реакция: ислам — к первоиудейству, как будто христианства не было, протестантизм — к первохристианству, как будто церкви не было. Дело испорчено, надо поправить, а для этого все начать сызнова — такова общая мысль Магомета и Лютера. [39] Я разумею здесь и в дальнейшем, конечно, не весь протестантизм, а лишь известный уклон его, известное течение или, вернее, опасность, грозящую протестантизму в большей степени, чем какому-либо другому христианскому исповеданию. Протестантизм сам по себе — великое, вечное религиозное движение, в котором заключается, как и во всякой религии, зерно абсолютной истины.
Главная притягательная сила обеих религий — общедоступность, общепонятность, приспособленность к среднему человеческому уровню. Обе религии — «в рост человеческий». Ничего сверхсильного, сверхмерного. Все метафизические крайности сглажены, все острия сломаны. Самые удобные, умеренные, естественные, разумные, «рациональные» религии — религии «здравого смысла», по преимуществу.
Бог внемирен, «трансцендентен», непознаваем, невоплошаем. Отсюда — «иконоборчество», отрицание всех божественных знаков и знамений, «символов» (предполагающих «имманентность», воплощаемость Бога). Вот почему так просто, пусто, чисто, светло, и голо, и холодно в обоих храмах — протестантской церкви и мусульманской мечети.
Монизм, детерминизм — два главных догмата обеих религий. Монизму религиозному, единобожию, противоречит или как будто противоречит догмат о Троице, о воплощении Сына Божьего. Вот почему оба «ислама» сводят Христа к «человеку Иисусу»; мусульманство — сразу, догматически, протестанство — мало-помалу, критически: от Лютера к Фейербаху [40] Фейербах Людвиг Андреас (1804–1872) — немецкий философ-материалист.
и Гарнаку, [41] Гарнак Адольф фон (1851–1930) — историк, занимался проблемами церкви.
от Гарнака к Ницше. У аверроистов, средневековых арабских комментаторов Аристотеля, точно так же, как у современных германских ученых, метафизическое единобожие становится «научным монизмом», материализмом; единство воли Божией — единством «законов естественных». И религиозному «фатализму», который нашел свое протестантское завершение в учении Кальвина, соответствует научный «детерминизм»; «оправданию верою» — оправдание ведением.
«Никогда не приходилось мне читать такой томительной книги… Невыносимая бестолковщина! Правда, многое, говорят, записано на бараньих лопатках, брошенных без всякого разбора в ящик». «Как бы то ни было, но книга написана невозможно скверно, так скверно, как едва ли была написана когда-либо другая книга», — замечает Карлейль о Коране.
Но если буква Корана темна и мертва, «бестолкова», то дух его мудр, огненен и жив. Кажется, Пушкин, в своих «Подражаниях Корану» проник в него глубже, чем когда-либо.
Недаром вы приснились мне
В бою, с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башнях, на стене.
Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!
Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье.
Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам.
«Священная война» — вот смысл Корана. Да примут Ислам все племена и народы, вся «дрожащая тварь», а кто не примет — огнем и мечом истребится. Один Бог, один Пророк, одно царство — от Гималая до Гибралтара. Записанное «на бараньих лопатках» запишется и на страницах всемирной истории.
Священная Война, война — религия — этого нет ни в одной религии, кроме ислама, по крайней мере, в такой степени. Война и в христианстве освящается почти так же, как в исламе, — почти, но не совсем.
Lumen coelié, sancta Rosa!
Восклицал он, дик и рьян,
И, как гром, его угроза
Поражала мусульман.
Но недаром «он имел одно виденье, непостижное уму»:
Все безмолвный, все печальный,
Как безумец умер он.
Еще безумнее — Франциск Ассизский, в Саладиновом лагере, умоляющий неверных сложить оружие, прекратить войну, «ради Христа»; еще безумнее Л. Толстой с «Войной и миром»; еще безумнее тот русский солдат, который ранил австрийца штыком, а потом взял его к себе на плечи, долго нес и, когда тот умер, сошел с ума от жалости и ужаса.
Можно ли врага любить и убивать? Можно. А если и нельзя, то все-таки надо. Нельзя и надо — тут противоречие, раздирающее душу, хотя и тайное. Но шила в мешке не утаишь.
Вот этого-то шила нет в исламе: там что надо, то и можно. Там война для войны, в христианстве война для мира. Ислам живет войною; христианство войну изживает. И никогда еще это изживание не чувствовалось так, как сейчас.
В союзе Турции с Германией два «ислама», протестантский и мусульманский, соединились именно в этом своем главном, единственном догмате — Священной Войне — войне как религии.
Между императором Вильгельмом, объявившим войну всему христианскому человечеству «во имя Христа», и «Антихристом» Ницше существует глубокая религиозная связь. О, конечно, это еще не Антихрист, а разве только «щенок Антихристов», как называли раскольники Никона; но и в щенке — Зверь.
Ницше подумал, Вильгельм сделал. Ницше от Христа отрекся и сошел с ума; Вильгельм от Христа не отрекался и с ума не сходил. Вильгельм, благоразумный, благополучный, благочестивый, и бездарный Ницше. Крови Господней причащается перед тем, чтобы пролить столько крови человеческой, сколько от начала мира не пролито. Это страшно, но еще страшнее то, что душа великого христианского народа — да, все-таки великого, все-таки христианского — не возмутилась этой кощунственной мерзостью, а если и возмутилась, то осталась безмолвною.
Вильгельму приснился тот же сон, как Магомету:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: