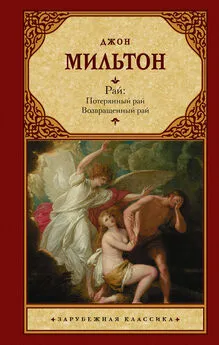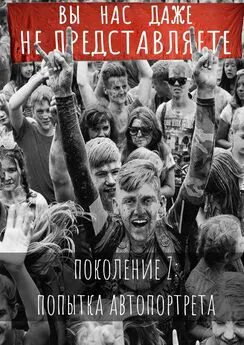Петр Вайль - Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета
- Название:Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1983
- Город:Москва-Иерусалим
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Вайль - Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета краткое содержание
Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1949 году "Новый журнал" всерьез утверждал, что русские эмигранты заставили Гитлера начать войну. Через 30 лет наш публицист советует президенту:
Существа, пытающиеся отравить лекарства и продукты, заслуживают того, чтобы быть повешенными на площадях.
И, наверное, огорчается, что президент не внемлет. А некий читатель откликается с одобрением на этот призыв:
Было немало хороших статей, были предложения о создании лагерей, использовании труда осужденных. Но китайская пословица гласит: "Сколько не говори «мед», во рту слаще не станет.
Голова идет кругом. Как тут не порадоваться, что американцы не читают русских газет. Лагеря, труд осужденных — ведь все это уже было. Но — ТАМ! Какое причудливое смешение понятий, убеждений. Какая тоска по сильной руке — Лавра Корнилова, Иосифа Сталина, Юрия Андропова…
Конечно, третья эмиграция — политически недоразвитая по сравнению с первой и даже со второй: все-таки условия созревания были иные. Но и у нас есть свои достижения. Существует, например, организация "Новые американцы за сильную Америку". Загадочное это дело: какие, интересно, есть методы принудить Сенат и Конгресс забыть мягкотелую интеллигентность, если (см. выше) не зовут нас в руководство чем бы то ни было. О политике и экономике и говорить не стоит — и более невинные занятия нам не но плечу. В русской прессе как-то разгорелась дискуссия: одни утверждали, что Булат Окуджава — идеологический диверсант, засланный разлагать эмиграцию, другие такую точку зрения оспаривали, заявляя, что он всего лишь объективно работает на КГБ, а не за зарплату.
Страшно подумать, что кто-то из наших получил бы реальную власть. Маяковского бы запретили, Сартра, Маркоса, Никиту Михалкова (зачем его папа гимн написал?), абстрактную живопись. Все это уже было. Но — ТАМ!
Русская эмиграция всегда видела свою цель в том, чтобы научить народы мира политической мудрости. Мы неоднократно предупреждали Ллойд-Джорджа, Картера, Миттерана. Мы им говорили, что надо делать, чтобы покончить с красной, коричневой и желтой чумой. Они нас мало слушали. Более того, они нам не очень верили. Они почему-то считали, что мы уже дома показали, на что способны, и вряд ли сумеем в гостях показать что-нибудь другое. И еще они думали, что мы односторонние, ограниченные люди и что нам опасно доверять. Правда, мы им отвечали тем же. Ведь мы привезли готовые рецепты спасения демократии, а они не хотят. И все же русская эмиграция добилась многого. Но интересно, что совсем не того, чего хотела. Сейчас, с расстояния десятилетий, не очень-то разберешь, кто меньшевик, кто эсер, а вот Нобелевский лауреат в первой эмиграции был — это уже навсегда — Бунин. Удастся ли новым американцам соорудить сильную Америку — неизвестно, а свой Нобелевский лауреат в третьей эмиграции есть — это известно точно — Солженицын.
Газетные перебранки забудутся, а собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, Цветаевой — останутся.
Правда, останется и то, что Цветаеву затравила, толкнула в Советский Союз и в петлю тоже эмиграция. И Набокова не признавала. И Белинкова заклеймила и свела в могилу. И Синявского объявила русофобом и пособником Кремля — тоже эмиграция.
Страшный опыт. Чем утешаться? Тем, что лес рубят — щепки летят? Так ведь хорошо бы знать — какой лес и зачем. Похоже, никогда не стать российской эмиграции реальной политической силой — ни в силу внутренних субъективных причин, ни в силу внешних объективных. Смысл нашего существования более важный и возвышенный. Эмиграция могла бы стать архивом, музеем, хранилищем, где все ценности российской культуры стояли бы рядом, на соседних полочках. Где можно было бы спокойно разобраться, как мы дошли до такой жизни, что единственным выходом стало бегство. Эмиграция могла бы стать заповедником, и котором тщательно выращивается рассада идеализма. В котором восстанавливаются старинные добродетели российской интеллигенции — терпимость к врагам, любовь к друзьям, сочувствие к слабым.
После Французской революции в Россию хлынули эмигранты и в несколько лет основательно изменили общественный климат страны. Разумеется, только среди образованного сословия — но оно-то и представляет государство в международном масштабе. Французские эмигранты не принесли с собой политических идей и методов переустройства мира. Разгромленные монархисты — какую еще монархическую идею могли они привить самодержавной России, в которой идея единоличной власти похлеще всех Людовиков. Французы открывали не журналы, а модные магазины, учили не борьбе с якобинцами, а менуэту, рассказывали не об ужасах революции, а фривольные анекдоты, демонстрировали не политические убеждения, а шелковые чулки. И — настолько изменили общество, что русскую интеллигенцию первой половины XIX века следует считать интеллигенцией русско-французской. Завоевание прошло мирно, при полном согласии сторон. Французы не поучали Россию, а явили ей пример, что оказалось весьма действенным. Нынешняя русская эмиграция тоже могла бы явить пример Западу. Надо вычленить, и осознать то уникальное, что есть у нас и что мы в состоянии предъявить здесь. Это, разумеется, не общественно-политические концепции: нас не слушают и правильно делают. По части материальной культуры и культуры поведения мы — неандертальцы. Но у нас есть освященный десятилетиями российский интеллигентский комплекс, усугубленный завоеваниями Октября — идеологизированный образ жизни.
Русский интеллигент напряженно и страстно наделяет окружающий мир идеологическими символами, наотрез отказываясь признать книгу — пачкой бумаги в переплете, а брюки — изделием из ткани. И пусть в своих крайностях это доходит до смеха и абсурда, напряженная
духовность — это, пожалуй, единственный оставшийся у нас козырь, который мы можем показать куда более прагматичному и деловому Западу. Сама насыщенность интеллектуальной жизни, сам стиль образа действий может стать примечательным образцом. Мешают этому две полярные крайности: с одной стороны — стремление выйти на высокий мировой уровень и всех научить уму-разуму, а с другой — бесконечные кухонные склоки о том, кто либерал, а кто носорог и кто все-таки объективно льет воду на чью мельницу.
Нас не зовут в советологи — и не надо. Надо другое — создать свою собственную советологию: не разоблачительного, а аналитического характера. Сколько можно сетовать по поводу того, что Симонов был не очень хороший человек и имел восемь дач в Коктебеле? Гораздо важнее спокойно и обстоятельно разобраться, почему с такой настойчивостью тиражируется в СССР военная тема. Можно в очередной раз назвать Евтушенко лицемером и негодяем, но все же полезнее будет проанализировать причины его фантастической популярности. (Кто-то из американцев сказал, что Евтушенко мог бы возглавить временное правительство). Стоит задуматься над популярностью Высоцкого — вместо слезливо-фамильярных воспоминаний о «Володе». Что толку тупо и злобно повторять "я свой доллар Советам не дам" и забыть о существовании советского кино, когда интересно и необходимо выяснить, откуда в тоталитарной отцензурированной стране появляется гениальный Тарковский и тончайший Никита Михалков.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: