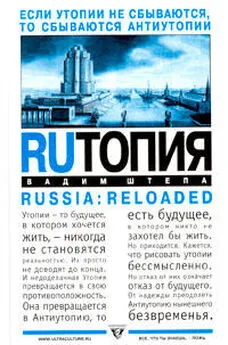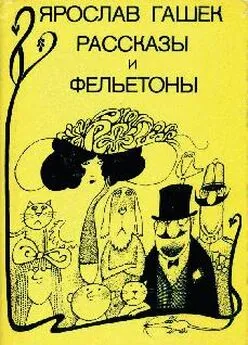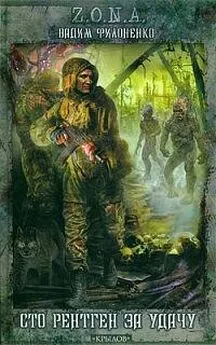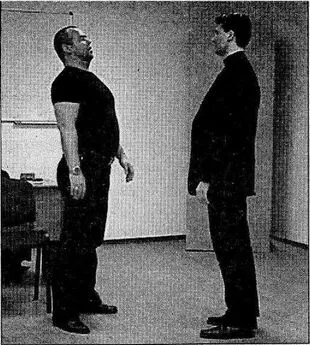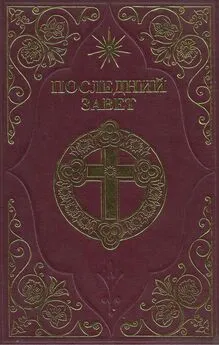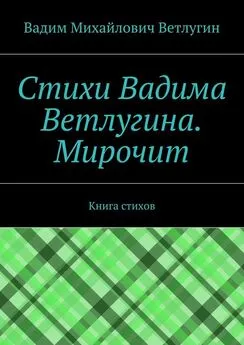Вадим Штепа - RUтопия
- Название:RUтопия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ультра.Культура
- Год:2004
- ISBN:5-9681-0004-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Штепа - RUтопия краткое содержание
«RUтопия» исследует воплощенную утопию, которая, по мнению автора, стоит за всеми фундаментальными социально-культурными трансформациями. При этом, однако, если воплощение утопии оказывается неполным, она с неизбежностью перерастает в свою антиутопическую противоположность. В книге анализируются исторические примеры такого воплощения (США, СССР, Третий рейх) и новые возможности воплощения в условиях эпохи постмодерна. Автор рассматривает религиозные и метафизические основы утопизма и особое внимание уделяет традиции и вероятному будущему русской утопии, способной прийти на смену нынешнему безвременью.
RUтопия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сегодня можно наблюдать воплощение этой утопии, происходящее даже без применения евгенических технологий. Общество словно бы само по себе складывается в эту трехчастную модель. Доминирующей кастой становятся друзья , именуемые на общепринятом языке «средним классом». В этой среде подчеркнуто культивируются молодость, подвижность, коммуникабельность. Игра становится характерным стилем жизни — даже работа у них носит игровой оттенок и порою выглядит просто как смена развлечений. Физический возраст здесь постепенно обессмысливается — биологическое время все более проигрывает необходимости поддерживать «молодежный стиль».
Полной стилевой противоположностью этой касте выступают рабы — или, политкорректно выражаясь, «население». Весь смысл своей жизни они видят в «работе» — не столько из-за того, что мечтают нечто «заработать», сколько потому, что просто не представляют иных сфер осмысленного приложения времени. Само время у них жестко привязано к биологическому ритму и оседлому «месту жительства». Рабы традиционно нуждаются в господах — что выражается в их инстинктивном преклонении перед любыми деятелями власти и шоу-бизнеса.
Высшая же каста — покровители , или элита — всегда пребывает в тени от этого яркого контраста между «средним классом» и «населением». Но с другой стороны, обойтись без нее совершенно невозможно. Если друзей и рабов оставить без ее балансирующего присмотра, они либо перебили бы друг друга, либо сами воспроизвели бы куда более жесткую, деспотичную, антиутопическую иерархию — вроде «Повелителя мух» или «Пляжа»…
Главное, что заставляет усомниться в таком уж безоблачном счастье друзей — это полное отсутствие у них вкуса к самостоятельному творчеству. К примеру, они очень любят музыку (→ 2–5) — но только как потребители. Вопрос о собственных проектах и сочинениях вызывает у них искреннее недоумение — зачем тратить на это силы и время? К тому же всякое творчество требует определенного самоуглубления, а оно только отвлекает от всеобщей радости. И когда у одного из друзей вдруг внезапно пробуждается какая-то странная созерцательность, и он ищет уединения — это сразу же делает его «белой вороной».
Впрочем, как оговаривается Эзрар, «они необразованны, но не глупы». Так, после его рассказа о том, что все люди когда-то умели летать, один друг спрашивает его, почему это запрещено ныне. А по твердому мнению покровителя , это привело бы лишь к усложнению жизни и нарушению привычного порядка. Здесь вскрывается противоречивая роль самих покровителей — естественное духовное лидерство в них иногда уступает место сугубо контролирующей функции. А это и есть переход от роли парадоксальных пророков к статусу ортодоксальных жрецов. (→ 2–1) Однако обособленное жречество всегда с неизбежностью вырождается — сам статус начинает подменять собой личность, которая уже ни на что не способна. Чему можно найти массу примеров и в иерархии официальной церкви, и в светских институтах, где «заслуженные профессора» иногда существенно уступают в интеллектуальном развитии своим «глупым студентам».
Утопия превращается в антиутопию, когда утрачивает свою внутреннюю динамику и начинает проповедовать некий статичный порядок как самоцель. В таком случае трансцендентный смысл (т. е. собственно утопическое «счастье») этого порядка попросту исчезает.
Тем не менее, главный герой, за которым здесь прямо слышится собственный голос автора, настаивает:
Мысль, счастье и труд — это три такие элемента, которые несоединимы в одном лице, несовместимы друг с другом, как несоединимы огонь, вода и воздух, и только тогда, когда каждый из них выделился в нечто обособленное и олицетворился: один — в покровителях, другой — в друзьях, третий — в рабах, стало возможным появление на земле счастья в чистом его виде. Насильственно вместе соединенные, они, как огонь, вода и воздух, могли произвести только хаос.
Странно, что Мережковский не чувствует очевидной взаимосвязи этих элементов — огонь, который нагревает воду, не горит без воздуха. В предисловии к книге он признается, что «мало склонен к мистицизму» — а жаль, ибо тогда, возможно, понял бы, что эти космические стихии легко воссоединяются (причем именно «ненасильственно»!) в особом и «неуловимом» элементе — эфире. Что вполне понимал Платон, проведя эту эзотерическую идею в своем «Государстве».
Оно также основано на трехчастной социальной модели — однако в нем люди, наделенные высшими качествами, могут родиться и в низшем общественном классе, и, наоборот, рожденные в высших классах могут оказаться с низкими душами. Поэтому в обязанности философов (аналога покровителей в его утопии) входит различение этих качеств и адекватное, динамическое формирование общественных классов:
Если в душе вновь родившегося окажется «медь» или «железо», его надлежит без всякого сожаления или снисхождения прогнать к земледельцам и ремесленникам. Но если у ремесленника родится младенец с примесью «золота» или «серебра», то он должен быть причислен либо к классу правителей, либо к классу воинов.
Это, несомненно, более демократическая модель — причем именно в исконном, эллинском (→ 3–7) значении этого слова.
Отсюда ясно, что настоящие покровители — это вовсе не какая-то замкнутая каста с вечным имиджем «мудрых старцев». «Старческий» возраст вообще не является преимуществом сам по себе — но может лишь суммировать (или доводить до маразма) те качества, которые проявлялись еще в детстве и молодости. Тот же Платон не «стал» гением на склоне лет, когда написал свои основные работы, — но был им на протяжении всей жизни.
Творческие интеллектуалы вообще живут «вне возраста», потому что умеют синтезировать в себе качества любых лет. Они сами себе покровители , поэтому для них не существует никаких социальных барьеров. Они свободно движутся внутри трехчастной модели, воспринимая остановки на разных ее «этажах» лишь как роли в своем собственном сценарии. Этот, становящийся ныне все более актуальным, социальный тип «революционного проходимца» исследуется в недавнем художественно-публицистическом сборнике «Образ жизни». [58] Образ жизни. — М., Гетто, 2003.
Его издатель Олег Киреев рисует облик «героя нашего времени» так:
Представитель этого типа не связан никакими общественными ограничениями, не принадлежит никакому устойчивому классу, а непринужденно и с юмором скользит мимо всех социальных ограничений и стратификаций. Один день такой «проходимец» может автостопить на дороге, другой — жить в роскошном заграничном отеле, будучи приглашенным, например, на конференцию; один день он работает на телевидении, другой — живет в анархическом или артистическом сквоте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: