Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике
- Название:Вторая древнейшая. Беседы о журналистике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Вагриус
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Аграновский - Вторая древнейшая. Беседы о журналистике краткое содержание
Книга известнейшего российского журналиста Валерия Аграновского — это, по сути, учебник журналистики, в котором теоретические положения проиллюстрированы статьями автора, опубликованными в разное время в периодической печати.
Вторая древнейшая. Беседы о журналистике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однажды М. Галлай остроумно сказал: «Документальная повесть есть такая повесть, в которой выведены вымышленные персонажи под фамилиями действительно существующих людей». [8] Галлай М. Цит. по памяти.
В этой шутке, несомненно, содержится рациональное зерно: художественная документалистика не сковывает, а скорее, развязывает фантазию автора! Роман о безногом летчике, согласитесь, выглядел бы неправдоподобным, а документальная повесть, в которой, по сути дела, выведен «вымышленный герой, но под фамилией действительно существующего человека» (всего одна буква изменена: Маресьев назван Мересьевым), воспринимается нами как истинная правда.
Да, автор имеет право на вымысел и домысел, на преувеличения, основанные, если хотите, на интуиции. Нелепо было бы это его право отрицать. Даже в тех случаях, когда литератор ведет почти научное исследование факта, оперируя цифрами и «специальными данными». Правы те классики, которые утверждали, что без выдумки нет искусства. Наша мысль, по выражению М. Горького, «измеряя, считая, останавливается перед измеренным и сосчитанным, не в силах связать свои наблюдения, создать из них точный практический вывод», [9] Горький Н. Собр. соч.: В 30 т. Т. 25. М., 1953. С. 86.
вот тут-то и должна помочь интуиция, найдя свое выражение в домысле.
Но выдумка выдумке рознь. «Солги, но так, чтобы я поверил», — сказано поэтом. Домысливать надо правдиво, чтобы читатель не усомнился. Дело это не легкое, напрямую связанное с чувством меры, с самодисциплиной, со способностью автора самоограничиваться.
В моей практике есть несколько случаев работы над прозой (лучше сказать: документальной): рассказы «Обелиск», «Белая лилия», совсем недавно — «Реноме», а раньше — «Повесть о карьеристах», «Остановите Малахова!». Все это написано на достоверной основе, и я, работая над сюжетом, «до последнего» сохранял фамилии прототипов, хотя и знал, что в конечном итоге изменю их (а если будет на то их согласие, то и сохраню). Такое скрупулезно-бережное отношение к факту и личности, такой процесс писания, кажется мне, дисциплинирует автора, ограничивает его в грубом домысле, дает толчок к художественному осмыслению событий. Как говорится, жизнь нам такое преподнесет, что никакая фантазия не сможет; «такое» и во сне не увидишь, и в бреду не услышишь.
Авторами упомянутого мною жанра «путевых очерков» обычно движет и такой естественный мотив, как принести читателю новые и разноплановые знания. Я готов предложить вам в качестве примера не один десяток фамилий замечательных литераторов, вам известных. Но что может сравниться с анализом примеров из собственного опыта автора?
Открою вам личное желание: добровольно положить свою голову на плаху «операционный стол» для критики взыскательным читателем. Вот вам опыт путевого очерка в надежде на то, что вы сами определите, к какому он относится типу: географическому, политическому, историко-фантастическому, видовому или к тому, который пишется по знаменитому «азиатскому методу», кстати, самому продуктивному из-за беспристрастности: «что вижу, о том пою». Ангажировать материал, написанный по такому принципу, так же сложно, как обратить в служанку себе любимому обычную кошку, гуляющую, как известно, «сама по себе».
Этот мой материал был опубликован. Во второй раз — в журнале «Смена» в 1998 году под стр-р-рашным названием (самой редакцией придуманным и с автором, как водится, не согласованным), но зато сместившем акценты смысла публикации: «3 часа до смерти». Я же предпочел бы заголовок спокойный и вовсе не «рыночный», но что было делать, когда поезд ушел и уже к вам, читателю, приближается? Поплакать в жилетку?
Желаю вам доброго свидания с коммерческим заголовком; авось не купитесь.
Реноме
Не люблю сенсаций. Возможно, потому, что никогда не умел писать репортажи. Оказавшись свидетелем или даже участником каких-было невероятных событий, никогда не торопился по-репортерски на газетную полосу. Такой журналистский «хлеб» считал относительно легким, так как материал не успевал утяжелиться размышлениями, для которых, согласитесь, необходимо время. В итоге я неизменно опаздывал со своими историями на встречу к читателю, но не завидовал первопроходимцам нашей печатной целины: надеялся, что когда-нибудь догоню. Особенно мне интересно было копаться и выкапывать свежие тематические повороты именно на тех дорогах, по которым уже прошли до меня многочисленные резвые (и непременно отмеченные талантом) репортеры.
Еще одно соображение: прежде я наивно полагал, что любое событие, когда бы оно ни происходило и когда бы ни достигало широкой известности, самодостаточно в том смысле, что главное как раз другое: чтобы события, наоборот, не было, и еще надо молить Господа Бога, чтобы его не было никогда. Вспоминаю старый оптимистический одесский анекдот: «Жора, ты пока жарь, а рыба будет!» В анекдоте — пусть будет, а в жизни — нет, не надо. В минувшей истории, которую я намерен вам рассказать, «рыба», к сожалению, была.
Четверть века назад мне удалось чудом избежать авиационной катастрофы. Случилось так, что в самолете находился пассажир, который еще в воздухе обнаружил неисправность и успел сказать пилотам, а уж те ломали головы, как спасать машину. И, представьте себе, спасли: экипаж и сто двадцать пассажиров имели дело с первым и, кажется, единственным случаем выживания этого типа самолетов, причем именно с такой неисправностью. Если вы пока не почувствовали горькую «изюминку» события (а чуткий читатель обычно угадывает такие вещи), скажу: человеком, распознавшим неисправность, был, извините, я. Увы, из песни, предложенной вам, местоимение «я» выкинуть уже невозможно.
Написать репортаж по горячим следам можно было, и нашлась бы газета, которая рискнула бы на публикацию (и она была: моя «Комсомольская правда», где я работал в ту пору корреспондентом), и нашелся бы редактор, который сумел бы без особых потерь преодолеть цензуру (он тоже был: Борис Панкин, бывший, с моей точки зрения, лучшим Главным за всю историю существования «Комсомолки»), а вот репортаж я написал бы в спокойных тонах, и назывался бы он, конечно, не «Катастрофа» и даже не «Самолет разрывает небо столицы», а без каких-либо претензий на сенсацию.
Но рука моя не потянулась к перу. Я не только близким, но и дальним не стал рассказывать о пережитом, а возможность писать вообще отложил до лучших времен, пока сам не успокоюсь и пока не родится мало-мальски стоящая мысль. Потекли дни и месяцы, потом годы, которые докатились до сегодня. Все минувшее время я категорически отказывался летать самолетами (на отдых и даже в командировки), буквально сойдя с неба на землю: поезда, автомашины, теплоходики, да хоть лошадки. В небо душа не пускала. Более того, я упорно избегал встреч с коллегами-журналистами, вместе с которыми оказался тогда над землей. До сих пор не знаю, известно ли им, что в действительности произошло тогда с самолетом и в самолете, в каком кошмаре был экипаж (о себе не говорю), каким странным поступком отличился я в самый острый момент, и кому кроме пилотов обязаны они сохранением своей жизни? И вот наконец пишу, так как откладывать дальше некуда: лимитируют возраст и здоровье. Если я не расскажу, никто уже не расскажет.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
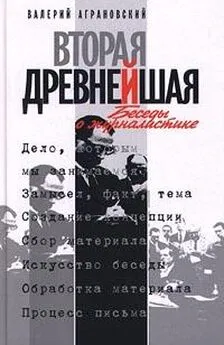
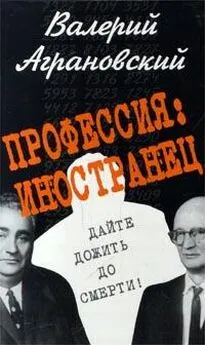


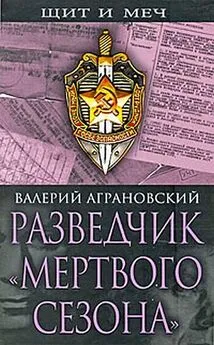
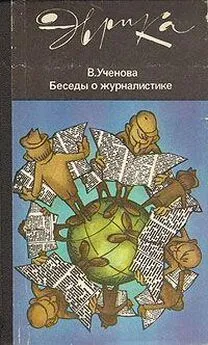
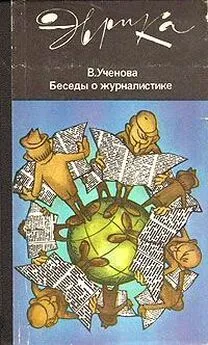
![Валерий Аграновский - Взятие сто четвертого [Повесть]](/books/1081637/valerij-agranovskij-vzyatie-sto-chetvertogo-povest.webp)