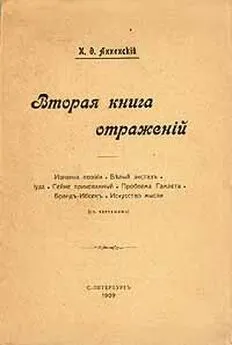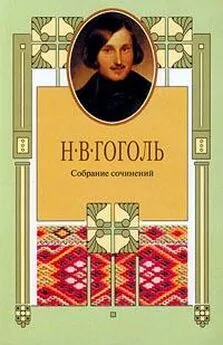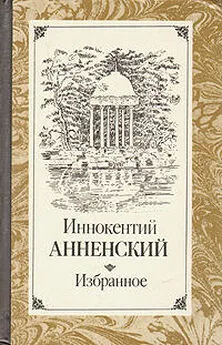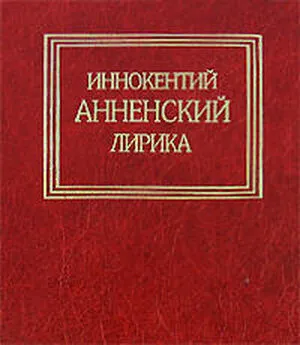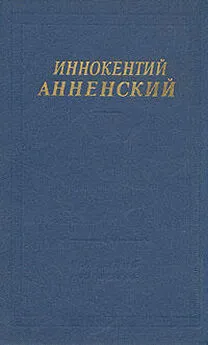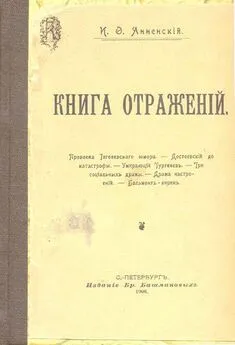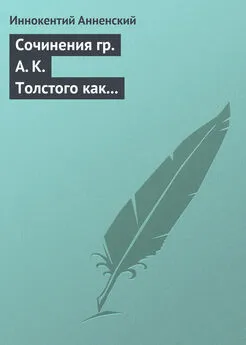А Федоров - Иннокентий Анненский - лирик и драматург
- Название:Иннокентий Анненский - лирик и драматург
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А Федоров - Иннокентий Анненский - лирик и драматург краткое содержание
Иннокентий Анненский - лирик и драматург - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Чем привлекали русского поэта избранные им авторы? В определенной степени, конечно, прямой созвучностью, лиризмом (Верлен, Сюлли Прюдом, Анри де Ренье, Франсис Жамм, Гейне, Лонгфелло), духом неуспокоенности, присущим их большинству. Примечательно, что в его тетрадях переводы не образуют какого-нибудь особого раздела, а перемежаются со стихотворениями оригинальными, и в первоначальной записи собственного стихотворения мелькнет иной раз французское заглавие - "La chute des lys" ("Падение лилий"), "Parallelement" ("Параллели"). Оригинальное и переведенное соседствуют очень близко.
Наряду с притяжением по сходству было и притяжение по несходству: в числе переведенных стихотворений есть и посвященные историческим, мифологическим, экзотическим мотивам ("Огненная жертва", "Смерть Сигурда", "Негибнущий аромат" - из Леконта де Лиля, "Преступление любви" - из Верлена) - такие, каких Анненский не писал; есть стихи, полные столь мрачного и напряженного пафоса, которого сдержанный поэт в своей собственной лирике избегал ("Над умершим поэтом", "Призраки", "Последнее воспоминание" - из Леконта де Лиля, "Я устал и бороться и жить и страдать" - из Верлена, "Гробница Эдгара Поэ" - из Малларме). Были в подлинниках черты, близкие и ему самому, но представавшие в резко усиленной степени, как бы сквозь увеличительное стекло,нарочитая грубость образов ("Два Парижа" - из Тристана Корбьера, "Богема" Мориса Роллина), подчеркнутая прозаичность быта ("Do, re, mi, fa, sol, la, si, do" Шарля Кро), равно как и сугубо мещанская просторечность ("Мать говорит" из Ганса Мюллера). Стихи, переведенные Анненским с разных языков, являют широкий диапазон чувств и настроений - от бушующей страсти до пасторальной мягкости или скептической усмешки и богатую палитру красок - от величественно ярких или мрачных до кричаще резких и грубых. Блок в рецензии на "Тихие песни" отметил "способность переводчика вселяться в душу разнообразных переживаний" и сказал, что "разнообразен и умен также выбор поэтов и стихов, - рядом с гейневским "Двойником", переданным сильно, - легкий, играющий стиль Горация и смешное стихотворение "Сушеная селедка" (из Ш. Кро)" {Блок А. Собр. соч. Т. 5. С. 621.}.
Итак, точки соприкосновения между переводчиком и иностранными поэтами были разнообразны. Если бы "Тихие песни", включавшие небольшую переводную антологию, снискали большую известность, она распространилась бы для русского читателя и на представленных в ней французских поэтов. Этого не произошло. А другая часть переводов Анненского осталась при его жизни в рукописи и была опубликована лишь позднее - в 1923 году ("Посмертные стихи"), некоторые же переводы - только в 1959 году ("Стихотворения и трагедии") Яркая страница в истории русского поэтического перевода раскрылась, таким образом, далеко не сразу.
Соотношение переводов Анненского с оригиналами своеобразно. Конечно, поэт отнюдь не придерживается "буквы" оригинала (как, впрочем, почти все выдающиеся поэты-переводчики), ряд образов подлинника он опускает, заменяя другими (что также не столь редко встречается в переводе стихов), но в самом "удалении" от иностранного текста у него есть своя система: он сохраняет основное, выхватывая из переводимого стихотворения те яркие пятна, те резкие штрихи, которые определяют его облик, связаны с общим его строем. Он передает и то, что ему близко у иноязычного автора, и то, что выделяется своей несхожестью, даже иногда чуть утрируя. И всегда сохраняет высокое мастерство, вложенное в подлинник, ту изощренность, которая составляет единство с художественной идеей, движущей стихом. Это - тоже непременный критерий его выбора. Форму оригинала - будь то чеканная традиционная строфа или причудливо-свободная, совсем не каноническая композиция - он заботливо соблюдает. И на его переводах, так же как и на его собственных стихах, лежит печать сильной индивидуальности, по-своему преломляющей характер подлинника.
5
Мастерство выражения в единстве с выражаемым - обязательное для Анненского условие творчества во всех жанрах, также - и в критической прозе, где анализ средств выразительности тоже принимает остро выразительную форму. Это особенно касается двух больших работ Анненского, специально посвященных современной русской поэзии. В очерке "Бальмонт-лирик", очень благожелательном по отношению к поэту, но вовсе не апологетическом, анализ его стихов проводится настолько объективно, что критик, например, не удерживается и от мягко-иронического упрека, относящегося, однако, к существенной черте поэтики знаменитого тогда символиста. Процитировав один его стих:
Хочу быть дерзким. Хочу быть смелым,
Анненский замечает: "Но неужто же эти невинные ракеты еще кого-нибудь мистифицируют?
Да, именно хочу быть дерзким и смелым, потому что не могу быть ни тем, ни другим" {Анненский И. Книги отражений. С. 105.}.
В статье же "О современном лиризме" Анненский показывает себя очень строгим критиком русской поэзии последних лет. Об одном только Блоке он говорит с любовью и увлеченностью, полностью принимая его лирику. Много страниц уделено и Сологубу, поэзию которого критик считает подлинным явлением искусства, но освещает ее столь парадоксально и эксцентрично (акцентируя в ней пристрастие автора к мотивам "запахов" и даже к "принюхиванию"), что у Сологуба это вызвало серьезную обиду. Ирония играет большую роль во всей статье, внешне эта ирония - мягкая, но за мягкостью вполне отчетливо ощущается требовательность художника. Хотя Анненский неоднократно оговаривает субъективность своего мнения, отмечая, что ему "нравится" или "не нравится", критерии оценок во многом объективны. Воздавая должное лидерам русского символизма - Бальмонту, Брюсову, Вяч. Иванову, обсуждая их стихи подробно, корректно, но без пиетета, Анненский видит их поэтические заслуги уже в прошлом, а в настоящем, то есть в момент кризиса школы, он фактически констатирует исчерпанность или спад их творчества, искусственность - как в содержательном, так и в формальном плане. Одно из новых стихотворений Бальмонта вызывает у него вопрос: "...не поражает ли вас в пьесе полное отсутствие экстаза, хотя бы искусственного, подогретого, раздутого? Задора простого - и того нет, как бывало" {Там же. С. 330.}. По поводу стихотворения Вяч. Иванова "Перед жертвой" возникает скептическое соображение: "Современная менада уже совсем не та, конечно, что была пятнадцать лет назад.
Вячеслав Иванов обучил ее по-гречески. И он же указал этой, более мистической, чем страстной, гиперборейке пределы ее вакхизма" {Там же. С. 329.}. Эрудит в Вяч. Иванове заслонил поэта, его стихи часто непонятны без ученого комментария, - таков упрек автору, подразумеваемый Анненским.
В лирике поэтов среднего и младшего поколений, как связанных с символизмом (А. Белого, отчасти - М. Кузмина), так и отходящих от него (Гумилева, Волошина, Городецкого, других), он усматривает и достоинства и недостатки, не проходя мимо смешного или экстравагантного. Критик, однако, останавливается не только на этих именах, но и на других, ныне давно забытых, - стихотворцев тогда было много, писали они достаточно профессионально, и Анненский о них отзывается по форме полуодобрительно, а по существу - сурово: "Все это не столько лирики, как артисты поэтического слова. Они его гранят и обрамляют" {Там же. С. 377.}. И тут же - другое замечание, прямо пренебрежительное: "Мы работаем прилежно, мы пишем, издаем, потом переписываем и переиздаем, и снова пишем и издаем. Ни один тост не пропадает у нас для потомства Нет огня, который бы объединял всю эту благородную графоманию" {Там же. С. 335.}.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: