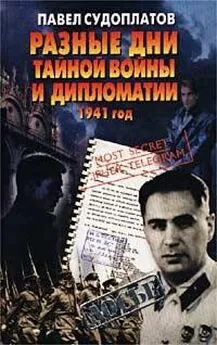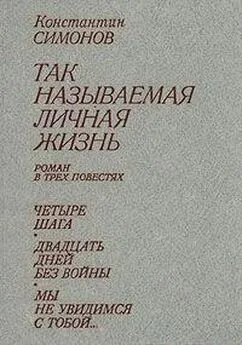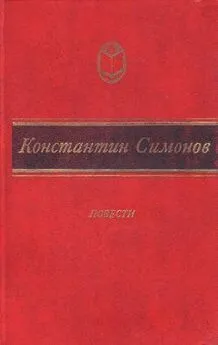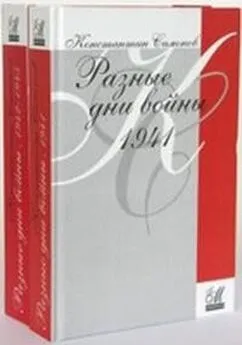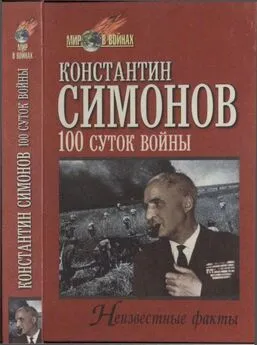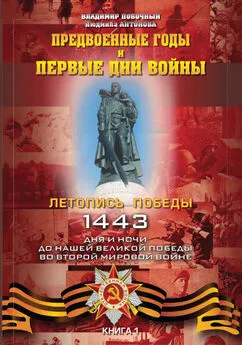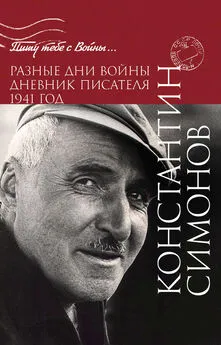Константин Симонов - Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы
- Название:Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:1977
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Симонов - Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы краткое содержание
Настоящее двухтомное издание произведений лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда Константина Симонова включает в себя военные дневники писателя, с первого и до последнего дня Великой Отечественной войны служившего корреспондентом «Красной звезды». Во второй том вошли дневники, рассказывающие о событиях на различных фронтах в 1942 – 1945 годах, а также фотографии сделанные в годы войны.
Разные дни войны. Дневник писателя, т.2. 1942-1945 годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Работали у меня дома каждый день с утра и до изнеможения. Уже не помню, кто из нас двоих записывал черновой текст сценария. Помнится, Пудовкин, но может быть, и поочередно.
Наконец сценарий был дописан. Я уезжал из Москвы, а сценарий стали читать все, кому это полагалось.
Забегая вперед, скажу, что конец был невеселым. Идея Пудовкина сделать сценарий по дневникам военного корреспондента, – сначала показавшаяся неожиданной мне самому, показалась еще более неожиданной тем, кто читал сценарий.
Ничего обидного нам сказано не было. Просто мы сделали не то, чего от нас ждали. В сценарии увидели рассказ о военной корреспонденте, а не о битве за Москву, и в таком качестве сочли нецелесообразным снимать его; а Пудовкину предложили работать над историческим фильмом об адмирале Нахимове…
Но все это произошло позже, после моего возвращения в Москву, а пока что, очень довольный тем, что мы с Пудовкиным успели закончить сценарий, я ехал из Москвы в Харьков. Очередная редакционная командировка на этот раз была не на фронт, а на судебный процесс, начинавшийся в Харькове над тремя немцами и одним русским, занимавшимися умерщвлением людей при помощи специально оборудованной автомашины. По-немецки она называлась «фергазунгсваген», или, покороче, обиходней, «газваген» – газовый вагон. А русское ее название – душегубка – мы привезли уже с харьковского процесса.
Когда в январе сорок третьего года на Северном Кавказе я впервые услышал о какой-то немецкой машине смерти, это страшное в своей народной меткости название – душегубка – еще не доходило до моих ушей.
Процесс предстоял над мелкими сошками гитлеровской машины уничтожения. Главный обвиняемый, офицер военной контрразведки германской армии, был всего-навсего капитаном, остальные двое немцев – в еще меньших чинах. И русский тоже был не бургомистром и не начальником полиции, а всего-навсего шофером душегубки.
Однако процесс этот был первый за войну. За этими мелкими сошками стояла созданная для массовых убийств государственная машина смерти, масштабов действия которой мы тогда еще не знали. На процесс, чтобы писать о нем, поехали такие известные всей стране люди, как Илья Оренбург и Алексей Толстой, одновременно являвшийся заместителем председателя Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию фашистских злодеяний. Поехало на процесс и большинство сидевших в Москве иностранных корреспондентов.
К нестерпимо медленно, по нынешним нашим понятиям, ползшему до Харькова поезду был прицеплен мягкий пассажирский вагон для всех, кто ехал на процесс.
Сразу же за Тулой пошла земля, где побывали немцы, и так тянулась до самого Харькова – сожженные города, разбитые вдребезги станции, взорванные водокачки, остовы сброшенных с путей горелых вагонов, вывихнутые столбы, перекрученные взрывами рельсы, трубы взорванных заводов, трубы сгоревших домов.
Всего этого я повидал предостаточно и раньше, но сейчас все это шло подряд, без перерыва, все время, пока мы ехали и пока подолгу стояли на станциях и полустанках. Было такое чувство, словно на долгом пути до Харькова все это вышло по обе стороны дороги на бесконечный мрачный парад необозримого горя и разорения. Я ехал мимо всего этого, а где-то на дне души отстаивалась тяжелая злоба на немцев. Отстаивалась, как тогда казалось, навеки, до смертного часа. Потом, уже в Харькове, Толстой в первое же утро, когда мы очутились вместе в гостинице, вспомнив эту дорогу, сказал, что чувствует себя после нее прогнанным сквозь строй, битым не до крови, а до мяса и костей, и мрачно грубо выругался. И я понял, что не только я, а и другие ехали испытывая то же самое, что я.
С харьковского процесса я отправил несколько корреспонденции в «Красную звезду».
Было такое чувство, что мы ухватились за самый кончик чего-то безмерно страшного, остававшегося где-то там, за захлопнутой еще для нас дверью. Тянем за этот кончик, но больше пока вытащить не можем! Уже после этого в мою память вошло и то, что я увидел своими глазами – Майданек и Освенцим, и то, о чем слышал и читал – тома Нюрнбергского процесса, десятки книг, тысячи и тысячи метров пленки, снятой операторами почти во всех местах главных массовых убийств – в России, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Польше. Печи, рвы, черепа, кости, панихиды, эксгумации…
Но тогда в Харькове был только этот куцый кончик всего раскрытого потом: не Гитлер, и не Гиммлер, и не Кальтенбруннер, а какой-то капитан Вильгельм Лангхельд, у которого на совести были не миллионы, а всего несколько тысяч жизней, и какой-то унтер-штурмфюрер СС Ганс Риц, который не помнил в точности, сколько по его приказу убито людей в Таганроге – не то двести, не то триста. Старался добросовестно отвечать на вопросы и все-таки не помнил – двести или триста. И шутка кого-то еще не пойманного, сказанная одному из пойманных над трупами в овраге: «Вот лежат пассажиры вчерашней газовой камеры». И морщины на лбу, и недоуменно растопыренные пальцы человека, честно силящегося вспомнить, кто именно был им убит: «Нет, я не помню всех этих русских имен». И уважение к находившейся в их руках газовой технике: «Я считал, что эта казнь гуманная». И поголовный расстрел четырехсот пятидесяти душевнобольных, и крик оттуда, из толпы расстреливаемых: «Сумасшедшие, что вы делаете!»
Обо всем этом я потом так много раз слышал и читал и все это столько раз повторялось в моей памяти, что мне вдруг кажется, что я у кого-то взял эту фразу: «Сумасшедшие, что вы делаете!», хотя она написана мною самим в лежащем сейчас передо мной моем собственном блокноте.
Потом, в сорок четвертом и в сорок пятом годах, мы сделали столько страшных открытий, что иногда тупели от ужасающей привычности невероятного.
А тогда в Харькове был первый процесс, и то, что я слышал на нем, я слышал в первый раз. То есть, точней говоря, я, конечно, и до харьковского процесса много раз слышал от тех, кого не успели убить, о том, как и кого на их глазах убили.
Но на процессе в Харькове я впервые услышал о том, к а к э т о д е л а л о с ь, о т е х, к т о э т о д е л а л, из уст трех немцев и одного русского. Его в зале суда в недавно освобожденном от оккупации Харькове ненавидели еще бесповоротней, чем этих трех немцев, хорошо зная, что без таких, как этот четвертый, такие, как эти трое – в чужой стране, – как без рук!
И все-таки тем новым для меня, что я почувствовал там, на процессе, была не ненависть – я испытывал ее и раньше, – а ошеломленность оттого, что я впервые слышал не о ком-то: «они убили, они сожгли, они замучили», а от первого лица, про самого себя, вслух: «я убил», «я застрелил», «я затолкнул их и запер в кузове», «я нажал на педаль газа». И в этом «я», «я», «я», повторявшемся день за днем в зале суда, при всей реальности было что-то неправдоподобное даже после всего, что я видел на войне.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: