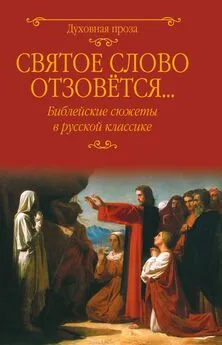Федор Достоевский - Записки о русской литературе
- Название:Записки о русской литературе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-699-19703-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Достоевский - Записки о русской литературе краткое содержание
В размышлениях Ф.М.Достоевского о русской литературе находят отражение те же философские, социальные и нравственные идеи, которые легли в основу его великих романов. Точные и глубокие суждения писателя о Пушкине, Некрасове, Льве Толстом, о Гоголе и Белинском дают ключ к пониманию того, что составляет суть русской литературы не только как явления художественного, но и как пути духовного подвижничества.
Записки о русской литературе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
У Вас была, в одной из Ваших брошюр, одна великолепная мысль и, главное, первый раз в литературе высказанная, – это: что всякий, чуть-чуть значительный и действительный талант – всегда кончал тем, что обращался к национальному чувству, становился народным, славянофильским. Так свистун Пушкин, вдруг, раньше всех Киреевских и Хомяковых, создает летописца в Чудовом монастыре, то есть раньше всех славянофилов высказывает всю их сущность и, мало того, – высказывает это несравненно глубже, чем все они до сих пор. Посмотрите опять на Герцена: сколько тоски и потребности поворотить на этот же путь и невозможность из-за скверных свойств личности. Но этого мало: этот закон поворота к национальности можно проследить не в одних поэтах и литературных деятелях, но и во всех других деятельностях. Так что, наконец, можно бы вывесть даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя будет стараться воротиться к народу, если же действительного таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, но еще экспатриируется, перейдет в католичество и проч., и проч. <���…>
Н. Н. Страхову
Дрезден 18/30 мая <1871>.
<���…> Неужели я Вам не писал про Вашу статью о Тургеневе? Читал я ее, как все Ваши статьи, – с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой. Если Вы признаете, что Тургенев потерял точку и виляет и не знает, что сказать о некоторых явлениях русской жизни (на всякий случай относясь к ним насмешливо), то должны бы были и признать, что великая художественная способность его ослабела (и должна была ослабеть) в последних его произведениях. Так оно и есть в самом деле, он очень ослабел как художник. «Голос» говорит, что это потому, что он живет за границей; но причина глубже. Вы же признаете и за последними произведениями его прежнюю художественность. Так ли это? Впрочем, я, может быть, ошибаюсь (не в суждении о Тургеневе, а в Вашей статье). Может быть, Вы не так только выразились… А знаете – ведь это все помещичья литература. Она сказала все, что имела сказать (великолепно у Льва Толстого). Но это в высшей степени помещичье слово было последним. Нового слова, заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. (Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художническом слове, уже не помещичьего – хотя и выражают в безобразном виде.)
В. Д. Оболенской
Петербург 20 января / 1872 г.
<���…> в нашем литературном мирке все <���…> так условно, так двусмысленно и со складкой, а стало быть, все так скучно и официально, особенно похвалы и лестные отзывы. Насчет же Вашего намерения извлечь из моего романа драму, то, конечно, я вполне согласен, да и за правило взял никогда таким попыткам не мешать; но не могу не заметить Вам, что почти всегда подобные попытки не удавались, по крайней мере, вполне.
Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме.
Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет… И однако же, отнюдь прошу не принимать моих слов за отсоветывание. Повторяю, я совершенно сочувствую Вашему намерению, а Ваше желание непременно довести дело до конца мне чрезвычайно лестно…
31 января 1873. Запись в альбом О. Козловой
<���…> Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро пятьдесят лет, а я все еще никак не могу распознать: оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь ее начинаю. Вот главная черта моего характера; может быть, и деятельности.
М. П. Федорову
Петербург, 19 сентября/ <18>73.
<���…> Вот что скажу я Вам окончательно: <���…> я не решаюсь и не могу приняться за поправки. 15 лет я не перечитывал мою повесть «Дядюшкин сон». Теперь же, перечитав, нахожу ее плохою. Я написал ее тогда в Сибири, в первый раз после каторги, единственно с целью опять начать литературное поприще и ужасно опасаясь цензуры (как к бывшему ссыльному). А потому невольно написал вещичку голубиного незлобия и замечательной невинности. Еще водевильчик из нее бы можно сделать, но для комедии – мало содержания, даже в фигуре князя – единственной серьезной фигуре во всей повести.
И потому, как Вам угодно: хотите поставить на сцену, ставьте; но я умываю руки и переправлять сам ни одной строчки не буду. Кроме того, об одном прошу настоятельно и обязательно: имени моего на афишах чтобы не было, то есть «переделано из повести „Д<���ядюшкин> с<���он>“ господ<���ина> Достоевского», или в этом роде, – прошу Вас, чтобы не было выставлено. Если же непременно надо, просто напишите: «Переделано из повести». Только чтоб не было моего имени.
Конечно, лучше бы было совсем ее не ставить. Вот мой совет. Но так как я уже дал Вам слово вначале, а Вы употребили труд, то уже нечего делать: все в Вашей воле.
Замечу только одно, и то мимоходом: кажется, нет пропорции в величине актов? Посоветовались бы Вы в Москве с кем из актеров, знающих сцену практически. (Я тоже ведь никогда ничего не писал для сцены.) И, во всяком случае, хорошо бы сократить. Что еще идет в повести, не пройдет на сцене. Сцена не книга. А потому, чем больше сокращений, тем бы, мне кажется, лучше <���…>.
А. Г. Достоевской
Понедельник 6 июля 1874 г.
<���…> работа моя туго подвигается, и я мучусь над планом. Обилие плана – вот главный недостаток. Когда рассмотрел его в целом, то вижу, что в нем соединилось четыре романа. Страхов всегда видел в этом мой недостаток. Но еще время есть. Авось, управлюсь. Главное план, а работа самая легче.
П. А. Козлову
Старая Русса, 1-е марта / <18>75.
<���…> Будет ли в Вашем альманахе критическая статья (обзор литературы за год)? Этим чрезвычайно бы выиграло издание, особенно при хорошей статье. Всего более нужна теперь в литературе критика и всего более ее ищут и читают. <���…>
А. Н. Плещееву
Старая Русса, 21 августа <18>75.
<���…> вот что главное: нельзя ли как-нибудь, чтоб ничего не выкидывали. У меня каждое лицо говорит своим языком и своими понятиями. Притом же «Странник», говорящий «от Писания», у меня говорит чрезвычайно осторожно, я сам держал цензуру каждого слова. <���…>
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
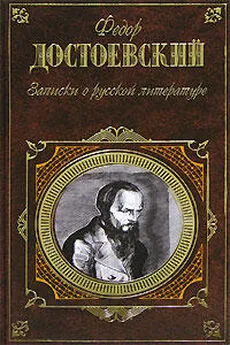

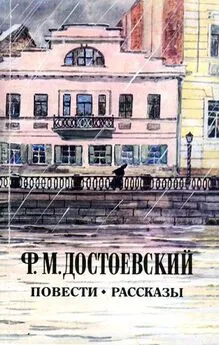
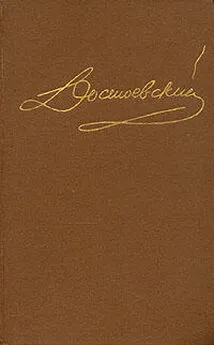

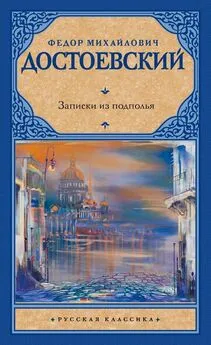
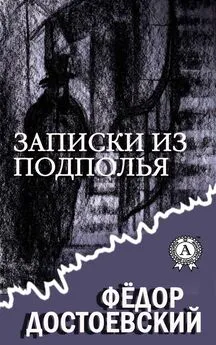
![Федор Достоевский - Призраки [Русская фантастическая проза второй половины XIX века]](/books/1071339/fedor-dostoevskij-prizraki-russkaya-fantasticheskaya.webp)