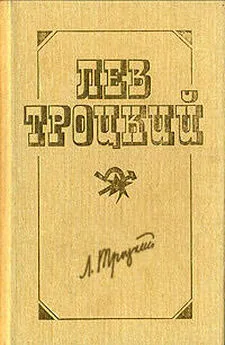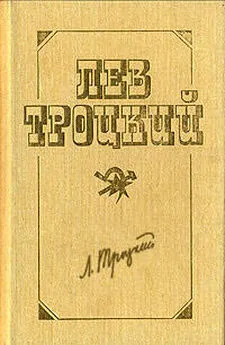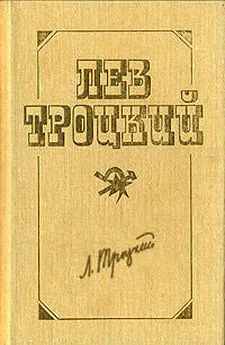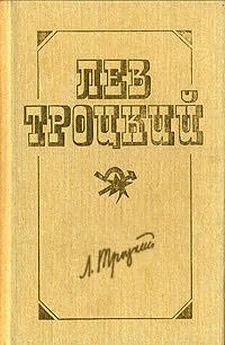Лев Троцкий - Проблемы международной пролетарской революции. Основные вопросы пролетарской революции
- Название:Проблемы международной пролетарской революции. Основные вопросы пролетарской революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Троцкий - Проблемы международной пролетарской революции. Основные вопросы пролетарской революции краткое содержание
Объединение в настоящем томе двух в разное время вышедших книг («Терроризм и коммунизм») и «Между империализмом и революцией»), оправдывается тем, что обе книги посвящены одной и той же основной теме, причем вторая, написанная во имя самостоятельной цели (защита нашей политики в отношении меньшевистской Грузии), является в то же время лишь более конкретной иллюстрацией основных положений первой книги на частном историческом примере.
В обеих работах основные вопросы революции тесно переплетены со злобой политического дня, с конкретными военными, политическими и хозяйственными мероприятиями. Совершенно естественны, совершенно неизбежны при этом второстепенные неправильности в оценках или частные нарушения перспективы. Исправлять их задним числом было бы неправильно уже потому, что и в частных ошибках отразились известные этапы нашей советской работы и партийной мысли. Основные положения книги сохраняют, с моей точки зрения, и сегодня свою силу целиком. Поскольку в первой книге идет речь о методах нашего хозяйственного строительства в период военного коммунизма, я посоветовал издательству приобщить к изданию, в виде приложения, мой доклад на IV Конгрессе Коминтерна о новой экономической политике Советской власти. Таким путем те главы книги «Терроризм и коммунизм», которые посвящены хозяйству под углом зрения нашего опыта 1919 – 1920 г.г., вводятся в необходимую перспективу.
Проблемы международной пролетарской революции. Основные вопросы пролетарской революции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что это не есть вопрос принципа, лучше всего показывают противники единоличия тем, что не требуют для мастерских, для цехов, для рудников коллегиальности. Они даже говорят с возмущением, что только сумасшедшие могут требовать, чтобы мастерской управляла тройка или пятерка: должен быть один заведующий цехом – и только. Почему? Если коллегиальное управление есть «школа», то почему нам не нужна школа низшего типа? Почему и в мастерских не завести коллегии? Но если коллегиальность не является священным заветом для мастерских, почему же она обязательна для завода?
Абрамовичем было здесь сказано, что так как у нас мало специалистов – по вине большевиков, повторяет он за Каутским, – то мы будем их заменять коллегиями рабочих. Это пустяки. Никакая коллегия из лиц, не знающих данного дела, не может заменить одного человека, который это дело знает. Коллегия юристов не заменит одного стрелочника. Коллегия больных не заменит врача. Самая идея неправильна. Коллегия сама по себе не дает знаний незнающему. Она может только скрывать незнание незнающего. Если на ответственный административный пост поставлено лицо, то оно не только у других, но и у себя самого на виду и ясно видит, что знает и чего не знает. Но нет ничего хуже коллегии из незнающих, плохо подготовленных работников на чисто практическом посту, требующем специальных познаний. Члены коллегии находятся в состоянии вечной растерянности, взаимного недовольства, и своей беспомощностью вносят шатания и хаос во всю работу. Рабочий класс глубоко заинтересован в том, чтобы повысить свою способность к управлению, т.-е. обучиться, но это достигается в сфере промышленности тем, что правление завода периодически отчитывается перед всем заводом, причем обсуждается хозяйственный план на год или на текущий месяц, и все рабочие, которые проявляют серьезный интерес к делу промышленной организации, берутся руководителями предприятия или особыми комиссиями на учет, проводятся через соответственные курсы, тесно связанные с практической работой самого завода, назначаются после того сперва на менее ответственные, затем на более ответственные посты. Таким путем мы захватим многие тысячи, в дальнейшем десятки тысяч. Вопрос же о тройках и пятерках интересует не рабочие массы, а более отсталую, более слабую, менее пригодную для самостоятельной работы часть советской рабочей бюрократии. Передовой, сознательный, твердый администратор естественно стремится взять завод в свои руки целиком, показать и себе и другим, что он может управлять. А если это администратор слабенький, который нетвердо стоит на ногах, ему хочется притулиться к другому, ибо в компании с другими незаметна будет его слабость. В такой коллегиальности есть глубоко опасное начало угашения личной ответственности. Если рабочий способен, но не опытен, ему нужен, стало быть, руководитель; под его рукой он подучится, а завтра мы его назначим заведующим на маленький завод. Таким путем он будет идти вперед. А в случайной коллегии, где сила и слабость каждого неясны, чувство ответственности неизбежно угашается.
Наша резолюция говорит о систематическом приближении к единоначалию, разумеется, не одним росчерком пера. Тут возможны различные варианты и комбинации. Где рабочий может справиться один, поставим его руководителем завода, дадим ему помощником специалиста. Где специалист хорош, поставим его начальником и дадим ему помощника, двух или трех – из рабочих. Наконец, где коллегия на деле доказала свою работоспособность, сохраним ее. Это – единственно серьезное отношение к делу, и только таким путем мы подойдем к правильной организации производства.
Есть еще одно соображение общественно-воспитательного характера, которое мне кажется самым существенным. У нас руководящий слой рабочего класса слишком тонок. Это – слой, который знал подполье, долго вел революционную борьбу, бывал за границей, читал много по тюрьмам и в ссылке, имеет политический опыт, широкий кругозор, это – самая драгоценная часть рабочего класса. Затем идет более молодое поколение, которое сознательно проделало нашу революцию с 1917 г. Это – очень ценная часть рабочего класса. Куда бы ни кинуть взор – на советское строительство, на профессиональные союзы, на партийную работу, на фронт гражданской войны, – всюду и везде руководящую роль играет этот верхний слой пролетариата. Главная правительственная работа Советской власти за эти два с половиной года состояла в том, что мы маневрировали, перебрасывая передовой слой рабочих с одного фронта на другой. Более глубокие слои рабочего класса, вышедшие из крестьянской толщи, хотя и настроены революционно, но еще слишком бедны инициативой. Чем болен наш русский мужик – это стадностью, отсутствием личности, то есть тем, что воспело наше реакционное народничество, что восславил Лев Толстой в образе Платона Каратаева: [138]крестьянин растворяется в своей общине, подчиняется земле. Совершенно очевидно, что социалистическое хозяйство основано не на Платоне Каратаеве, а на мыслящем, инициативном, ответственном работнике. Эту личную инициативу необходимо в рабочем воспитать. Личное начало у буржуазии, это – корыстный индивидуализм, конкуренция. Личное начало у рабочего класса не противоречит ни солидарности, ни братскому сотрудничеству. Социалистическая солидарность не может опираться на безличие, на стадность. Между тем именно безличие часто прячется за коллегиальность.
В рабочем классе много сил, дарований, талантов. Нужно, чтоб они были на виду, обнаружились в соревновании. Начало единоличия в области административно-технической этому содействует. Вот почему оно выше и плодотворнее начала коллегиальности.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПО ДОКЛАДУ
Товарищи, аргументы меньшевистских ораторов, особенно Абрамовича, отражают прежде всего полную оторванность от жизни и ее задач. Стоит наблюдатель на берегу реки, которую необходимо переплыть, и рассуждает о свойствах воды и о силе течения. Переплыть надо – вот задача! А наш каутскианец переминается с ноги на ногу. «Мы не отрицаем, – говорит он, – необходимости переплыть, но вместе с тем, как реалисты, мы видим опасность, и не одну, а несколько: течение быстрое, есть подводные камни, люди устали и пр. и пр. Но когда вам говорят, что мы отрицаем самую необходимость переплыть, то это не так, – ни в каком случае. Еще 23 года тому назад мы не отрицали необходимости переплыть»…
На этом построено все – с начала до конца. Во-первых, говорят меньшевики, мы не отрицаем и никогда не отрицали необходимости обороны, стало быть, не отрицаем и армии. Во-вторых, мы не отрицаем в принципе и трудовой повинности. Позвольте, но где же вообще, кроме небольших религиозных сект, есть на свете люди, которые отрицали бы оборону «вообще»! Однако дело ни на шаг не подвигается вашим отвлеченным признанием. Когда дошло до реальной борьбы и до создания реальной армии против реальных врагов рабочего класса, что вы тогда делали? – Противодействовали, саботировали, – не отрицая обороны вообще. Вы говорили и писали в ваших газетах: «Долой гражданскую войну!» в то время, когда на нас напирали белогвардейцы и приставили нож к нашему горлу. Теперь вы, одобряя задним числом нашу победоносную оборону, переводите ваш критический взор на новые задачи и поучаете нас: «Вообще мы не отрицаем трудовой повинности, – говорите вы, – но… без юридического принуждения». Однако же в этих словах чудовищное внутреннее противоречие! Понятие «повинности» само в себе заключает элемент принуждения. Человек повинен, обязан что-то сделать. Если не сделает, то, очевидно, претерпит принуждение, кару. Тут мы подходим к вопросу о том, какое принуждение. Абрамович говорит: экономическое давление – да, но не юридическое принуждение. Представитель союза металлистов т. Гольцман [139]превосходно показал всю схоластичность такого построения. Уже при капитализме, то есть при режиме «свободного» труда, экономическое давление неотделимо от юридического принуждения. Тем более теперь!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: