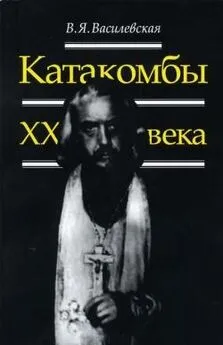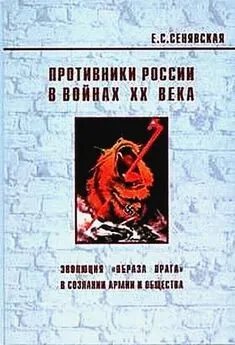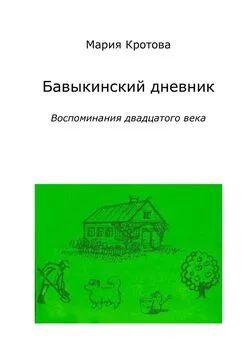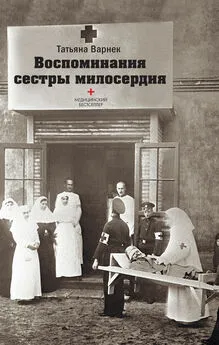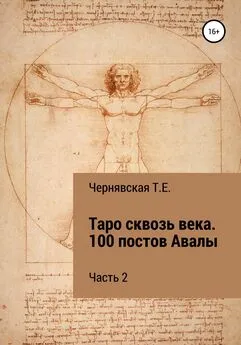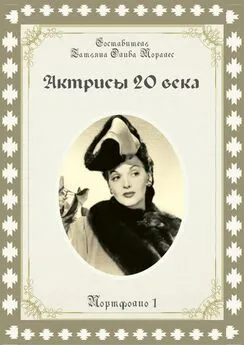Татьяна Колядич - Воспоминания писателей ХХ века (эволюция, проблематика, типология)
- Название:Воспоминания писателей ХХ века (эволюция, проблематика, типология)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Колядич - Воспоминания писателей ХХ века (эволюция, проблематика, типология) краткое содержание
Воспоминания писателей ХХ века (эволюция, проблематика, типология) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Приведем пример одного из подобных описаний:
"Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи! Помню в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко.
— Подумаешь, как трудно, — скажешь ты.
— А вот представь себе, не так — то просто. Свосем не просто.
— А чего: взял золотую краску, помазал кисточкой орех — и готово дело!
Вот у тебя и получится некрасивый орех, хотя и золотого цвета, да скаким-то бронзовым оттенком, а мутный, крашеный. У нас же орехи сияли как церковные купола, отражая солнце и небо". Катаев, 4, с.17.
Одновременно в авторский план включаются авторские признания, отрывки исповедального характера с самым разным содержанием. Они могут как входить в авторские отступления, так и существовать параллельно им, в виде своеобразных комментариев.
Основным остается авторское восприятие, ход его мыслей, который и определяет содержание диалогов, поэтому следует говорить об их известной условности диалогов. Главным является — "эмоциональная точность" (Одоевцева), достоверность в передаче своего отношения к герою или собеседников (в отмеченных нами вариантах), а не точность фактическая. В данном случае, естественно роль речевой характеристики уменьшается.
Мы видим, что речевая характеристика выполняет ту же функцию, что и показанные выше различные формы внутренней речи. В то же время использование прямой речи создает определенный эффект условности: описываемые события происходят как бы сейчас, а не в прошлом.
Кроме того, подобные описания сопровождает постоянный комментарий и оценка взаимоотношений героя как со средой, так и с встречаемыми в процессе познания личностями. Практически параллельно даются взаимоотношения с другими действующими лицами и определяется как отношения к ним героя, так и его местоположение среди них. И, наконец, последний момент проявления динамического описания связан с конструирированием автором диалогов, отражением поведения героя через проявления его речевого модуса.
Однако, несмотря на столь разнообразные проявления динамического описания, нам представляется, что в воспоминаниях преобладает статическое описание, через которое дается описание предметов, которые изображаются в их качественной определенности, стабильности и неизменяемости в определенный промежуток времени. Здесь особую роль играет организующая роль автора — повествователя.
Введение образов, обозначающих второе «я» автора, обусловлено расширением возможностей изображения образа автора как героя реального повествования и в то же время в виде некоего условного персонажа.
Возможность бытования героя в разных временных планах и становится первопричиной его раздвоения. Следует согласиться с следующим мнением исследователя: "Отстранение, отчуждение собственного я в прошлом может связываться с расщеплением объекта изображения и введением другого персонажа — «двойника» повествователя на одном из описываемых временных срезов". _
Иногда автор делает самого себя собеседником, обращаясь в период поиска решения, необходимости определения собственной позиции, передачи собственных мыслей, конкретизации каких-то суждений. Подобный прием раздвоения легко приводит к появлению образа двойника. Так происходит, например, в воспоминаниях В.Каверина ("Петроградский студент") и обуславливается особым состоянием, в котором находится герой.
Образы двойников появляются в разных ситуациях: во сне или кошмаре, во время ночных разговорах героя с самим собой. Чаще всего описываемое автором состояние продиктовано его болезнью. Сюжетное же выделение образов-двойников обычно связано с организацией подтекста или одного из повествовательных планов, а также формированием образной системы.
По мнению В.Александрова, подобный процесс перевоплощения и раздвоение личности повествователя обусловлены и сюжетно: "Бытование повествователя организовывается с помощью новеллистического построения произведения ("Котик Летаев"). В этом случае вводятся многочисленные отсылки к возможным перевоплощениям, когда герои начинают соотноситься с похожими, имевшими в прошлом место событиями из их прежней жизни. Так, повествователь, кроме того, что был когда — то персом, существовал и в образе еврея из Синая, проводя параллели между собственной боязнью "эдипового комплекса" и запретом нарушения десяти заповедей. _
Двойник обычно существует во внутреннем плане, но может выйти и в реальный мир, окружающий героя. Ряд мемуаристов отчетливо ощущают зыбкость и взаимопроницаемость настоящего и потустороннего мира. И тогда грань между реальностью и действительностью становится зыбкой, появляется возможность для раздвоения личности. Катаев передает это сотояние тем, что переносит действие в план сновидений героя. Обычно переход происходит при движении сознания по цепочке ассоциаций. В повести Каверина "Трава забвения" таким опорным образом является образ старика, моющего бутылки. "Он был моим многократно повторяющимся кошмаром, прелюдией к еще более страшному сновидению о говорящем коте" Катаев, 4. с.161.
В статье В.Александрова реализация авторского «я» обозначена на уровне трансформации в других персонажей, когда автор как бы наделяет их свойственными ему переживания, передавая им часть своего эмоционального восприятия мира. Такова, например, Генриента Марковна, представляющая собой "сложное соединение замысла и реализации его: женщина появляется в зеркале, в котором ранее ребенок видел самого себя". _
Принцип зеркального отражения характерен для воспоминаний, он соотносится и с романтическим мировосприятием героя, которому важно видеть себя в разных образах.
Любопытно, как дает собственное (опосредованное) описание К.Паустовский:
"В полночь мы отправлялись к заутрене. Меня одевали в матросские длинные брюки, в матросскую курточку с золотыми пуговицами и больно причесывали щеткой волосы. Я смотрел на себя в зеркало, видел страшно взволнованного румяного мальчика и был очень доволен". Паустовский, т. 4, с. 37.
Второе описание тоже конкретно и основано на авторском видении героя: "В овальном зеркале отражался красный от смущения маленький гимназист, пытавшийся расстегнуть озябшими пальцами шинель. Я не сразу понял, что этот гимназист — я сам. Я долго не мог справиться с пуговицами. Я расстегивал их и смотрел на раму от зеркала". Паустовский, т.4, с.89.
Необычно само зеркало, "веницианское стекло", использованное в раме: "Это была не рама, а венок из стеклянных, бледно окрашенных листьев, цветов и гроздьев винограда". Паустовский. Т.4, с.89.
Сравнение двух отрывков показывает, что герой изображен в разном возрастном состоянии. Обычно "матроский костюм" носили маленькие мальчики и девочки. Герой привык к нему и поэтому зафиксирована его реакция на происходящее ("был очень доволен"). Во втором примере автору важно показать необычность случившегося, характерологическая ситуация усиливается описанием необычного зеркала (выходящего из разряда привычных вещей) и фиксаций состояния героя с помощью повторов ("я не сразу понял", "я долго не мог справиться с пуговицами").
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: