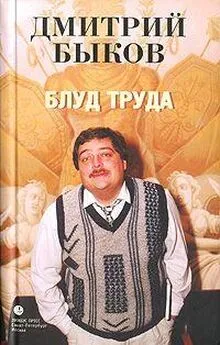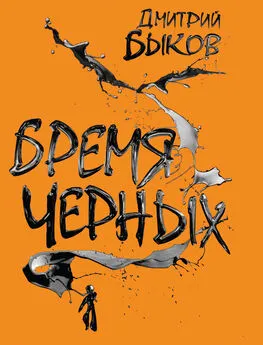Дмитрий Быков - Блуд труда
- Название:Блуд труда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Быков - Блуд труда краткое содержание
Блуд труда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Проливаем в любви и сечах, зачиная, родя, творя, нашей кровью затлели реки и цветут земные моря. Но течет угрюмо и красно единая с первого дня, всем дням и векам участна, и нас со всеми родня».
Жилы Шкапская воспринимала как провод, по которому бежит ток – ток крови, связующий ее со всеми бывшими и будущими. Но в густой плоти собственного текста ей тесно – отсюда и жар метафизического вопрошания: чем гуще и плотнее детали, тем более страстен и мучителен порыв вырваться, выпутаться из них. Отсюда и невероятное напряжение спора с Богом, чью справедливость, непостижимую для человека, она отвергает. У нее были об этом страшные стихи, которые она и печатать не решилась:
«Боже, милый и трудный, внемлю! Но внемлешь ли нам и Ты? Иль только готовишь землю под белые эти кресты?».
Сходный вопль – «О Господи, ты что ж в меня не веришь?» – вырвался полвека спустя у другого петербургского поэта, и тоже у женщины,- у знатока и летописца деталей, у Нонны Слепаковой, которая показала мне когда-то израильское «Избранное» Шкапской: до русского тогда все еще не дошли руки. И теперь не дошли, но об этом – позже.
– Больше всего меня интересует, почему она замолчала,- сказал я при недавней встрече ее дочери, Светлане Глебовне.
– Это всех интересует,- улыбнулась она.
Но я, кажется, понимаю. Дело не в том, что нельзя вечно жить в таком напряжении, что ей было тридцать четыре года, и даже не в том, что, по ее собственному признанию, «лирика не нужна». А просто – поэт наделен исключительным чувством времени, и когда вырождается время, вырождается поэт. В стихи Шкапской пришли чужие интонации, и опять невозможно поверить, что это пишет она: в них появилась искусственная, экстатическая бодрость и невыносимая скука. Эти стихи заговорили языком «научной поэзии», языком очерка и социалистического строительства. Тут-то и случился аборт – в самом страшном, метафизическом его измерении: поэт удалил себя.
Ей стало казаться – и она написала об этом в автобиографии,- что в искусстве она такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни. Ей стали окончательно тесны стихи. Она и всегда тяготела к прозе, к сюжету, к очерку (и «Явь» – отличный образец эпоса в достаточно вялой, бессюжетной русской поэзии: балладники у нас редки, мы все больше о чувствах). Стих стал ей тесен, оттого она и писала в строку,- но надо было идти дальше, а следующая ступень требовала метафизического рывка. На него-то у нее и не хватило сил, ибо, как сказал потом Мандельштам, «Поэзия – это сознание своей правоты». Вся интеллигенция, поддержавшая Октябрь, этого сознания лишилась в одночасье, и Шкапская сказала об этом точнее других – тогда, когда еще не затыкала себе рот:
В моих путях запомнить мне велели
Лишь строгие печали Октября
Да маленькие горечи Апреля,
И вот – Страстной мне каждая неделя,
И омраченной – каждая заря.
То, что Октябрь здесь уподоблен – и противопоставлен – Пасхе, вполне органично для Шкапской. Но она первой почувствовала, что кровь, которая льется вокруг нее,- не кровь родов, не кровь битвы:
«И кровь моя текла, не усыхая – не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая».
Так видел и понимал поэт, а человек, к которому он подселился, видел иначе и пытался иначе говорить. Человек внушал себе, что пришла эпоха еще более великая, эпоха радостных строительств,- и в последнем, не опубликованном своем сборнике, так и оставшемся в рукописи и без названия, она пускает такого петуха, берет такие немыслимые ноты, что жутко становится от этого бесплодного насилия над собой.
Верно и то, что ей был тесен обычный поэтический язык, что в двадцать третьем она опубликовала прелестную книжечку китайских стилизаций «Ца-ца-ца» – замечательные стихотворения в прозе, едва ли не лучшие в двадцатых, но и это лишь стилизация, пение с чужого голоса, хотя и со своим надрывом. Вообще ужасна была участь молодых поэтесс двадцатых годов, среди которых были первоклассные – Адалис, например, а были и просто одаренные – Радлова, Павлович, Герцык; ни у кого из них не хватило сил продолжать на уровне своих первых стихов, подняться выше взятой высоты. Шкапская, кстати, дружила с Адалис. Выдержать и продолжать могли немногие, самые сильные,- сама Цветаева надолго замолчала во второй половине двадцатых, ибо суррогатный выход, предложенный Пастернаком,- выход в эпос, а по сути, в рифмованный очерк,- ее не устраивал. И Пастернак, и Маяковский, по точному определению Шкловского, стали писать «вдоль темы» – рассказывать не ИЗ, а ПРО. На пять лет замолчал Мандельштам, по стихотворению в год писала Ахматова. Шкапская ушла в очерк.
Конечно, она могла продолжать писать стихи, если бы хоть на минуту почувствовала себя трагической и гордой отщепенкой. Но у нее было революционное прошлое, да и настрадалась она достаточно. Ей казалось, что пришло великое. А пришло скучное.
Собственно, только для этого, возможно, я и взялся говорить о ней сейчас. Мы тоже застали кровавую и бесплодную эпоху великих перемен. И, как всякая кровавая и бесплодная эпоха, она заканчивается абортом, и опять Родина наша не родила никакого светлого будущего, а только скуку и бесчувствие новой реставрации. И опять нам кажется, что впереди созидание, и снова мы обманываем себя, что пришло что-то великое. Но наши большие поэты пишут все хуже и хуже, а новых нет. Или, вернее, они есть. Но в прежние времена этих графоманов не то что в Союз поэтов, а на порог его приемной не пустили бы.
Молчание поэта – страшный приговор эпохе, и молчание Шкапской было окончательной констатацией того, что российская судьба вернулась в свое русло. Шкапская принялась писать очерки, поначалу они были хороши, потом испортились, а самым страшным стало время ее работы над чудовищной «Историей фабрик и заводов», выдуманной Горьким.
Вообще эта пустая жизнь после аборта, эта глухая жизнь после поэта (м.б. после поэзии) – самые жуткие страницы биографии Шкапской, более жуткие, чем нищета в детстве, чем крик отца в психушке, чем изгнание и даже чем пребывание в Новочеркасске под белыми. А ведь так прошла половина ее жизни. Она прожила еще двадцать семь лет, заставив себя забыть, что она поэт. Дочь ее, рожденная в тридцать втором, понятия не имела, что мать писала стихи.
– Какая она была?
– Строгая. Упаси Бог ботинки не там поставить. Кричала на нас. Ночью она работала, днем спала, и потревожить ее было нельзя. Я ухожу в школу – она еще работает, прихожу из школы – спит.
– Курила?
– Нет, никогда.
– Много ездила?
– Почти все время. Она была разъездной корреспондент, писала во много изданий сразу… Надломила ее «История фабрик и заводов»: она написала о петербургском заводе Лесснера (впоследствии переименованном в честь Карла Маркса), делала книгу как художественную, а надо было – строго документальную. Без всяких приемов, без всякой литературы… После смерти Горького никто ее печатать не стал, появились в печати только несколько глав – еще при его жизни,- а потом ей сказали, что таким методом описывать завод нельзя. Так и лежит эта история неизданная.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: