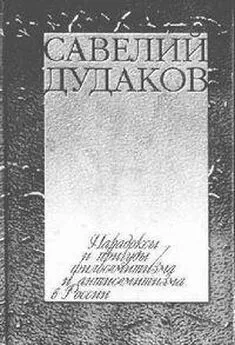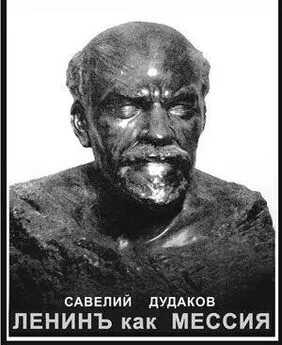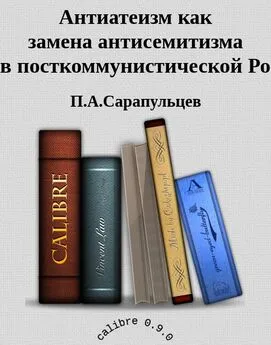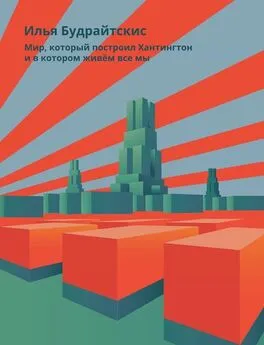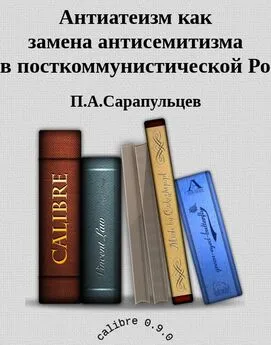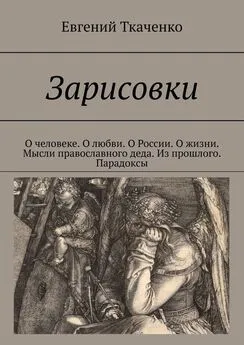Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России
- Название:Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Савелий Дудаков - Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России краткое содержание
Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Родился в тот самый день, когда умер его знаменитый дед Василий Назарович Каразин (1773-1842), государственный деятель конца XVIII – начала XIX в., учредитель в России Министерства народного просвещения, многогранный ученый и изобретатель, основатель украинского филотехнического общества, основатель первого в Малороссии Харьковского университета. Задолго до уничтожения крепостного права дед-Каразин освободил крестьян. И вот этот "передовой" человек своего времени был присяжным антисемитом. Причем его антисемитизм проявлялся в области исторической науки, где он, вопреки фактам, утверждал зависимость малороссов в церковных делах от евреев. Незадолго до смерти он написал статью "Польский вопрос в 1839 г." (В названии статьи внутренняя полемика с маркизом де Кюстином "Россия в 1839 году").
В полемическом задоре Каразин утверждал, что польский народ "душой и телом есть русский", а шляхта есть наносный слой, вроде шведов в Финляндии и немцев в Прибалтике. Но это ничто по сравнению с выпадом против еврейства: "…церкви, покрытые соломой, – предмет посмеяния для поляков, отдавались на оброк жидам!
Под страхом быть битым кнутом, несчастный христианин выторговывал у грязного обрезанника позволение войти в храм Божий и тот же, покрытый паршею жид (поверят ли этому?) – деспотически распоряжался браками, крещениями и всеми другими христианскими таинствами!"199 Это положение было неоднократно опровергнуто серьезными историками200. В последнее время в научных кругах вновь возникла полемика по этому вопросу.
Образование Николай Николаевич получил во 2-м кадетском корпусе. В 1862 г. он был выпущен офицером в Казанский драгунский полк. Сходство с биографией Верещагина становится полным, когда он в 1865 г. выходит в отставку в чине штабс-капитана и поступает вольнослушателем в Академию художеств. Учился он под руководством известного баталиста В.П. Виллевальде, но через год был исключен из Академии после конфликта с ректоратом. Суть конфликта описала многолетняя подруга Каразина художница Анна Петровна Шнейдер, суть эта настолько интересна, что историю эту следует привести полностью: «На их курсе была задана тема из Библии:
"Посещение Авраама тремя ангелами". Каразин трактовал ее реально: нарисовал палатку, трех странников, сидящих у стола, Сарру, прислуживающую, и Авраама, беседующего с ними. За такую трактовку темы он получил от жюри следующее замечание, написанное на самом рисунке (он уже издали увидел эту надпись, проходя по выставке к своему рисунку): "Отчего Вы лишили ангелов подобающего им украшения – крыльев?" Каразин немедленно схватил карандаш и написал: "Потому, что считал Авраама догадливее академиков и, что если бы он увидел ангелов с крыльями, то тотчас же догадался бы, кто они такие"»201. За дерзость Каразин был уволен из Академии в 24 часа. Набросок этой картины долго сохранялся у Шнейдер. На счастье молодого человека, в это время генерал К.П. Кауфман формировал Туркестанский корпус.
Каразин получил чин поручика и командование ротой в 5-м туркестанском батальоне.
Жажда странствий охватила художника: "Этот совершенно неизвестный мир, и его изучение было моей мечтой, и вот эта мечта осуществилась", – писал он впоследствии. Туркестанский линейный полк принял участие во всех боях Кауфмана, в том числе в сражении на Зауравланских высотах, запечатленных художником на полотне. Шумков пишет, что Каразин – честно исполнял свой солдатский долг и, участвуя в колониальной войне, не запятнал себя ни единым расистским высказыванием или жестокостью. Мягко говоря – это неправда! Каразин – человек своего времени, и его биография не нуждается в приукрашивании. Участник кампании, впоследствии военный министр, генерал А.Н. Куропаткин в неопубликованных мемуарах писал: "В нашем отряде очутились два известных художника: Василий Васильевич Верещагин и Каразин. Верещагин… решил остаться в Самарканде, прельщенный красотами его расположения и памятниками тамерлановской эпохи – мечетями. Каразин командовал в 5-м линейном батальоне. Его осуждали, что при объезде Кауфманом войск после боя Каразин стоял на правом фланге своей роты с шашкою в крови. Такую выставку своего участия в рукопашной схватке мы находили неприличной для уважающего себя и свое оружие офицера"202. Это свидетельство участника событий в свою очередь подхлестнуло автора монографии о Верещагине противопоставить своего "героя-гуманиста"-"кровожадности" Каразина, что тоже не соответствует действительности. Сам же Верещагин рассказывал, как во время "Самаркандского сиденья" он обучал солдат стрелять по мятежным сартам или как он же поджигал торговые ряды города203. Да и как иначе могло происходить, когда возле Верещагина было убито 40 человек, как врагов, так и друзей204.
Возвращаясь к Каразину, укажем, что в соответствии с инструкцией, полученной действующими войсками от Русского географического общества, он принял участие в ряде научных экспедиций. В 1870 г., в связи с ухудшением здоровья, после нескольких ранений Николай Николаевич вторично выходит в отставку в чине капитана и поселяется в Петербурге. В конце 1871 г. почти одновременно с этим он выступил в качестве беллетриста в журнале "Дело" романом "На далеких окраинах" и во "Всемирной иллюстрации" серией рисунков о Средней Азии. А.К. Лебедев, сравнивая работы Верещагина и Каразина, отдает полное предпочтение первому. При всей остроте и броскости в профессиональном смысле Каразин уступает ученику Жерома. С другой стороны, Лебедев указывает на колониальный характер творчества Каразина, который главный интерес видит в передаче жутких, кровавых сцен. Будто бы в них нет и следа гуманизма Верещагина. Это, конечно же, преувеличение. Скажем, рисунок "Казнь преступников в Бухаре" можно трактовать как протест против изуверства, а не любование жестокостью Востока. Сам же Каразин писал об изуверстве мусульманских владык: "Не проходит ни одного базарного дня, чтобы на площадях, присутственных местах, отведенных для убоя скота, кровь несчастных, провинившихся перед шариатом, не смешивалась бы с кровью волов и баранов"205. Одна из лучших работ Каразина – исполненная тушью "Молитва в степи" (1882 г., Куйбышевский краеведческий музей), где именно "гуманистические" чувства охватывают зрителя, желающего присоединиться к одинокой фигуре молящегося… Во всяком случае, как иллюстратор Каразин достиг признания. Руководители многотомной серии "Живописная Россия", предпринятой исключительно энтузиазмом и под редакцией Семенова-Тянь-Шанского и вышедшей в издательстве Маврикия Осиповича Вольфа, предложили ему принять участие в ее иллюстрировании. Том, посвященный Средней Азии, почти единолично проиллюстрирован им. Впоследствии Каразин принял участие еще в нескольких экспедициях в Туркестан, каждый раз это давало толчок его творчеству. Александр Бенуа, художник диаметрально противоположного направления, заметил Каразина и дал его описание на одном из акварельных вечеров в Академии: «На другом углу, сочно посасывая сигару и при этом непрерывно рассказывая про свои баснословные похождения, "русский Гюстав Доре" – Н.Н. Каразин набрасывал черной тушью и белилами то тянувшиеся по степи караваны, то тройку, мчавшуюся по занесенному снегом лесу…»206 Как видим, в тексте титул "Русский Доре" звучит не иронически.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: