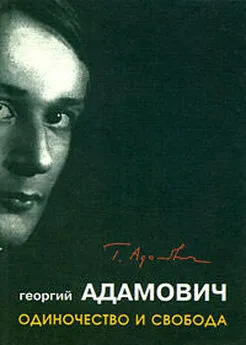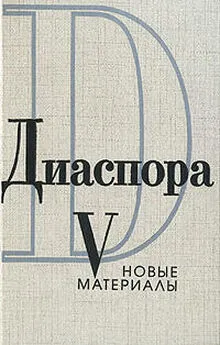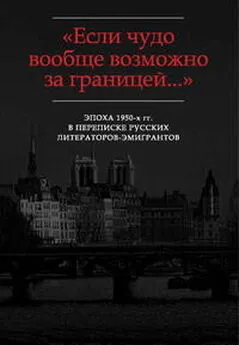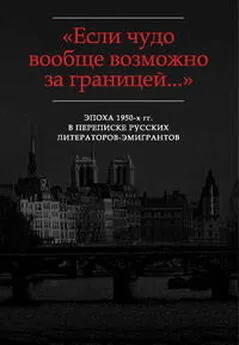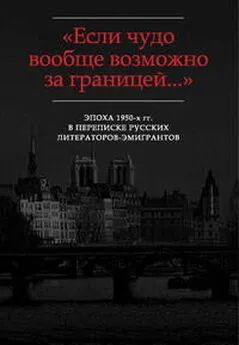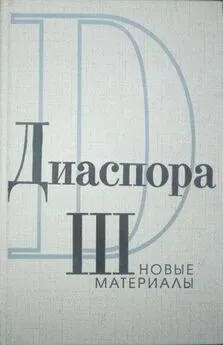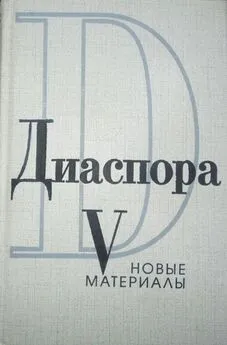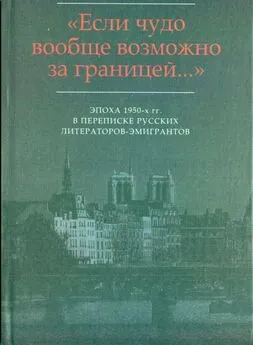Георгий Адамович - Одиночество и свобода
- Название:Одиночество и свобода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Адамович - Одиночество и свобода краткое содержание
Георгий Адамович - прозаик, эссеист, поэт, один из ведущих литературных критиков русского зарубежья.
Его считали избалованным и капризным, парадоксальным, изменчивым и неожиданным во вкусах и пристрастиях. Он нередко поклонялся тому, что сжигал, его трактовки одних и тех же авторов бывали подчас полярно противоположными... Но не это было главным. В своих лучших и итоговых работах Адамович был подлинным "арбитром вкуса".
Одиночество - это условие существования русской литературы в эмиграции. Оторванная от родной почвы, затерянная в иноязычном мире, подвергаемая соблазнам культурной ассимиляции, она взамен обрела самое дорогое - свободу.
Критические эссе, посвященные творчеству В.Набокова, Д.Мережковского, И.Бунина, З.Гиппиус, М.Алданова, Б.Зайцева и др., - не только рассуждения о силе, мастерстве, успехах и неудачах писателей русского зарубежья - это и повесть о стойкости людей, в бесприютном одиночестве отстоявших свободу и достоинство творчества.
Содержание
Одиночество и свобода Эссе
Мережковский Эссе
Шмелев Эссе
Бунин Эссе
Еще о Бунине:
По поводу "Воспоминаний" Эссе
По поводу "Темных аллей" Эссе
"Освобождение Толстого" Эссе
Алданов Эссе
Зинаида Гиппиус Эссе
Ремизов Эссе
Борис Зайцев Эссе
Владимир Набоков Эссе
Тэффи Эссе
Куприн Эссе
Вячеслав Иванов и Лев Шестов Эссе
Трое (Поплавский, Штейгер, Фельзен)
Поплавский Эссе
Анатолий Штейгер Эссе
Юрий Фельзен Эссе
Сомнения и надежды Эссе
Одиночество и свобода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но Шестов не совсем-то о Чехове говорит. Правда, он признает в Чехове «удивительное искусство одним прикосновением, даже дыханием, взглядом убивать все, чем живут и гордятся люди».
«В этом искусстве он постоянно совершенствовался и дошел до виртуозности, до которой не доходил никто из его соперников в европейской литературе. Я без колебания ставлю его далеко впереди Мопассана. Мопассану часто приходилось делать напряжение, чтобы справиться со своей жертвой. От Мопассана жертва сплошь да рядом уходила помятой и изломленной, но живой. В руках Чехова все умирало».
Утверждение это совершенно правильное. Неправильно только было бы счесть, что чеховской «жертвой», по Шестову, был человек, человеческая личность. Нет, в этом смысле признать Чехова «жестоким талантом» никак нельзя… Чехов жесток не к людям, а человеческим верованиям, к человеческим иллюзиям, ко всякого рода мировоззрениям и миросозерцаниям. Здесь, в этой области, он в самом деле беспощаден, – и не случайно Шестов без конца возвращается к «Скучной истории», где старый профессор в ответ на мольбу Кати:
«Вы умны, образованны, вы долго жили, вы были учителем… что мне делать?»
Отвечает:
«По совести, Катя, не знаю… давай, Катя, завтракать!»
У Чехова не остается и следа «огоньков» впереди, ни короленковских, ни каких-либо других. Но всякий, читающий Чехова без предубеждения, согласится, что сочувствия и снисхождения к человеку у него больше, нежели у какого-либо другого русского писателя
Чехов к человеку бесконечно менее требователен, чем Толстой, Достоевский или даже Гоголь. Он знает, что сил у человека не так много, как думали его великие предшественники. Он не ждёт от человека никакого подвижничества, и не скрывая от него пустоты жизни, готов все сделать, чтобы жизнь сама по себе не была сплошной болью и мукой. В этом смысле характеристика, данная Чехову Шестовым, характеристика глубокая и меткая, – ничуть не противоречит сложившемуся о Чехове представлению, как о писателе, которому многое в его в творчестве подсказано сердцем. Как послесловие к великой русской литературе прошлого явление Чехова оправдано, естественно и логично: правда, послесловие, вывод могли бы оказаться и иными, но и в этом ослабленном виде они связаны с былыми темами, былыми мыслями и вопросами, и заключают в себе отклик на них. Шестов витает вокруг Чехова, как будто вокруг «жертвы», – пользуясь его же образом. Он с увлечением обрывает и уничтожает все, что к «жертве» приросло, все, что было ей чужими домыслами навязано. Но уходит она от него живой, да у Шестова и не было, по-видимому, ни стремления к другому выводу, ни расчета на него.
Он был крайне далек от любопытства к каким-либо опытам над человеком. Он удовлетворен бывал лишь тогда, когда ему удавалось показать, в какой тупик зашли наши вековечные надежды и убеждения.
ТРОЕ (Поплавский, Штейгер, Фельзен)
Три очерка, объединенных под этим заглавием, посвящены писателям молодым, рано скончавшимся: Борису Поплавскому, Анатолию Штейгеру, Юрию Фельзену. Первый из них погиб случайно и нелепо, другого унес туберкулез, с самой ранней юности подтачивавший его силы, третий был во время войны арестован немцами и по состоянию своего здоровья едва ли мог долго выдержать жизнь в концентрационном лагере. Были это люди совершенно различные, и если бы не принадлежность к одной и той же литературной группе, — которую принято называть «парижской», — найти что-либо общее у них оказалось бы трудно. Поплавский почти что сразу был признан в этой группе явлением исключительным. На Штейгера при жизни посматривали снисходительно, не придавая его поэзии сколько-нибудь серьезного значения. Фельзена — как писателя, — скорей уважали, чем любили.
Какое место отведет в эмигрантской литературе каждому из них «будущий историк», лицо проблематическое, о котором все мы думаем с некоторым беспокойством? Суд времени — суд окончательный, хотя и не всегда безошибочный: не предрешая того, кто будет прав, кто неправ, допускаю, что суд этот может и разойтись с нашими суждениями, в особенности о тех, кто, мало прожив, сравнительно мало и дал. «Иных уж нет, а те далече». По отношению к старшим иначе и быть не может: годы идут, время делает свое дело. Выделяю среди младших троих, исчезновение которых было воспринято их литературными друзьями особенно болезненно, и — что скрывать! — именно с мыслью о будущем отвожу им в этом сборнике место преимущественно перед их сверстниками.
Было за последние двадцать лет сделано немало попыток «объяснить» его, рассказать тем, кто лично его не знал, в чем было очарование этой одареннейшей, странной, безрасчетно-расточительной личности.
Когда-то, вскоре после смерти поэта, на одном из парижских публичных собраний, Мережковский сказал, что если эмигрантская литература дала Поплавского, то этого одного с лихвой достаточно для ее оправдания на всяких будущих судах. Большинство слушателей было удивлено. Многие, вероятно, решили, что Мережковский, как обычно, увлекается, ищет крайностей… Но не были удивлены друзья покойного, согласные с такой оценкой. Однако и до сих пор, даже среди самых страстных и убежденных почитателей Поплавского, нет единодушия, нет ясного понимания, кем и чем, собственно говоря, он был, что в нем их волнует и прельщает.
Стихи? Да, он писал прелестные, глубоко музыкальные стихи, такие, которыми нельзя было не заслушаться, даже в его монотонно-певучем чтении. Да, он был подлинно одержим стихами, был «Божией милостью» стихотворец, — можно ли в этом сомневаться? Но в понятие это он ни в коем случае полностью не укладывается, и сам он был бы, конечно, озадачен и даже возмущен, если бы такую прокрустову операцию над ним хотели проделать. При всем своеобразии стихов Поплавского, они, эти стихи, все-таки едва ли оказались бы лучшим, ценнейшим, что он способен был бы оставить. Не раз сравнивали его с Андреем Белым, в частности, сравнивал тот же Мережковский, Белого недолюбливавший, но признававший его редчайшие дарования: сравнение верно лишь в самых общих чертах, главным образом в том, что о Белом еще труднее, чем о Поплавском, сказать, в чем его значение. Не будет, мне кажется, ошибкой предположить, что чисто стихотворный дар был у Поплавского много сильнее, свободнее, благодатнее, нежели у Белого, хотя, конечно, тот превосходил его размахом творчества, всем трагизмом своего двоящегося облика, самыми своими стремлениями и крушениями. Ни Белый, ни Поплавский не были людьми, которые именно в стихах находят себя, вырастают, расцветают, только в них способны себя выразить, — каким был Блок, например. При этом, говоря о Поплавском, я имею в виду вовсе не некоторую небрежность его стихотворной манеры, небрежность, скорей нарочитую, умышленную, чем невольную, а главным образом ту «облачность», «туманность» его лирики, в которой он порой как будто растворяется и исчезает. Его стихи, это не он сам: это рассказ о нем, вернее комментарии к нему, дополнение к его мечтам, мыслям, сомнениям, порывам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: