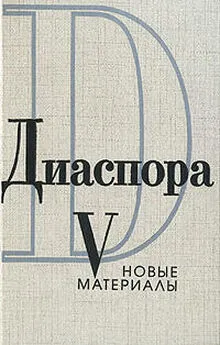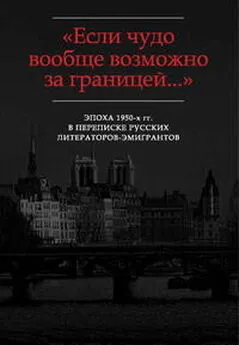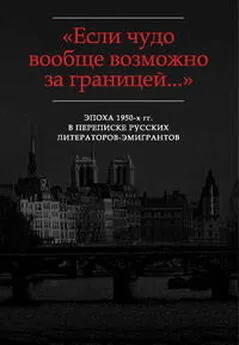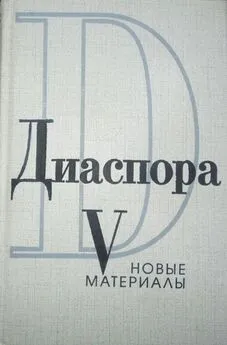Георгий Адамович - Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов
- Название:Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Адамович - Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов краткое содержание
ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ 50-х годов
Поэзия в эмиграции.
НАСЛЕДСТВО БЛОКА.
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЭЗИИ.
О ШТЕЙГЕРЕ, О СТИХАХ, О ПОЭЗИИ И О ПРОЧЕМ
Невозможность поэзии. Избранные эссе 50-х годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но поэма выдохлась. Она насыщена злободневностью и потому увяла, обветшала. В ней нет, — как бывало в лучших стихах Блока, — второго подводного течения, не говоря уже о волнах таинственной и вещей музыки, поднимавшейся когда-то из глубин его сознания. Все ясно, нечего перечитывать. Остроумно, в особенности начало, но как-то непривычно мелко, бойко, чуть-чуть плоско и суетливо, и как еще раз не вспомнить Пушкина: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво!». Это сказано на веки веков, это должны бы усвоить, как абсолютную истину, все поэты, хотя это и вовсе не значит, конечно, что стихи следует писать в духе ломоносовских од. Нет, это значит… в сущности, это значит именно то, что Блок всем своим умом и сердцем знал, чувствовал раньше, до «Двенадцати». Христос в конце, «в белом венчике из роз»… об этом и говорить тягостно: не кощунство в обычном смысле слова, не политическая ошибка, а образ невозможный, мучительно-легковесный и фальшивый, — потому что нельзя же Христом пользоваться для литературного эффекта! А здесь именно эффект, под занавес. Блок ужасно волновался перед смертью, с содроганием вспоминал «Двенадцать» и даже в бреду говорил о них. Уверен, что не только политические сомнения терзали его, не брань былых друзей, не одобрение друзей новых, а то — и даже главным образом то, — что было грехом на его художнической совести. Слишком глубоко было у него сознание ответственности поэта за каждое слово, чтобы оплошность столь грандиозная и столько «малых сих» соблазнившая, столько откликов вызвавшая, не представлялась ему тяжким, непростительным преступлением.
Уверен еще и в другом: поэма «Двенадцать» если в нашей литературе и останется, то к сокровищам ее причислена не будет. Былые страсти улягутся, да, в сущности, улеглись они уже и теперь: кто же в самом деле станет теперь выискивать в этом ряде набросков, в этих горьких, растерянных и сбивчиво-живописных вариациях на октябрьские темы какую-либо политическую идею? Будет, вероятно, признано, что поэма искусно написана. Но того, что в истинной и бессмертной поэзии утоляет духовную жажду человека, — как в мире физическом: ледяное, горное, прозрачно-бездонное озеро, — этого будущее в «Двенадцати» не найдет.
Не только к роману, но иногда и к статье применимы слова о магическом кристалле, через который не совсем ясно, к чему она придет. Мне казалось, что для поэзии Блока настало время окончательных суждений. Но нет, рановато еще подводить итоги, и достаточно освежить впечатления, — кое-что перечесть, другое вспомнить, над третьим дольше, чем прежде, задуматься, — чтобы противоречивые доводы с прежней силой вступили в борьбу.
Он был сыном великого русского девятнадцатого века и в поэзии своей дал к нему некое послесловие, печальное и несравненно-искреннее. Бывают писатели, глядящие в прошлое, страстно мечтающие о том, чтобы его продолжить, удержать: Бунин, например. Блок не мечтал ни о чем, да ни о чем и не тосковал. Блок носил в себе прошлое, договаривал, дошептывал все то, что когда-то упреками и вопросами взвилось к самому небу. Несомненно, он был последним нашим «кающимся дворянином», и, кстати, ничем другим невозможно объяснить его отношение к революции. Да и хмурая недоверчивость его к русскому культурно-эстетическому возрождению начала столетия, на вячеславо-ивановский или дягилевский лад, внушена была тем же самым. Народничество было его сердцу ближе, чем модернизм, а сознание его заблудилось где-то между этими двумя путями, не найдя себя, в сущности, ни на одном из них.
Сознание это было лишено всякого подобия пушкино-вольтеровской быстроты и точности. Блок мыслил по-своему, но мыслил медленно и как бы ощупью. В нем была скорей мудрость, чем ум, а среда и эпоха навязали этой мудрости многое такое, что должно было бы остаться ей чуждо. Гибнет «Титаник», например. Блок признается в письме, что очень этому рад: «Есть еще океан!». Когда люди, по разным причинам от Блока отталкивающиеся, на такие его строки указывают, возразить нечего: действительно, стыдно читать! Но эта мистическая чепуха насчет океана принадлежит среде, а Блок повинен лишь в том, что не успел весь прах ее от ног своих отрясти.
Замечательно в стихах его то, что каждое из них продолжает и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и основана особая действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, притом свободной от влияния житейских невзгод, — как в случаях сравнительно мелких, скажем у Есенина. Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается вне вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что был он человеком, который искал «не счастья, а правды», как было о нем справедливо сказано.
Ни о ком другом в нашей новой литературе повторить этих слов было бы нельзя. Оттого-то Блок и был в ней единственным «вседержителем душ». Оттого книги его — не сборники разных стихотворений, хороших или плохих, слабых или восхитительных, а летопись удач и неудач в каком-то таинственном деле, к которому обыкновенным смертным — пусть и очень талантливым писателям — доступа нет… Боюсь под конец, «под занавес» впасть в то же туманное и бесконтрольное краснобайство, о котором только что упомянул в связи с «океаном». Что это за дело, в которое вовлечен был Блок? Может быть, вовсе и нет его, может быть, это всего только мираж? Не знаю да и никто не знает. Но даже если в блоковских формах это только мираж, поэт, оказавшийся в силах его создать, коснулся основ и свойств человеческого духа, — иначе не было бы ему в ответ всех этих длительных, протяжных откликов. Какая-то вечная, глухая борьба в мире идет. С Блоком мы, по глубочайшему нашему ощущению, — и ничуть не забывая при этом о его ошибках, колебаниях и уступках, — с Блоком мы на верной, праведной стороне, на стороне «добра и света». Оттого и отречение от него, тоже по глубочайшему ощущению, ничем нельзя было бы оправдать, как ничем нельзя оправдать предательства.
О ШТЕЙГЕРЕ, О СТИХАХ, О ПОЭЗИИ И О ПРОЧЕМ
Всякому критику, да и всякому мало-мальски известному писателю приходится получать рукописи от начинающих авторов с вопросом: есть ли у меня талант? Крайне редко чувствуешь потребность ответить: да, несомненно есть. Должен признаться, что за всю мою, довольно уже долгую, практику было только два случая, когда мог я ответить именно так, с совершенной уверенностью, без колебания. Первый особенно врезался мне в память. Было это за несколько лет до войны.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: