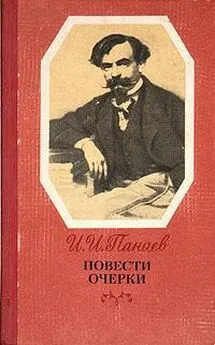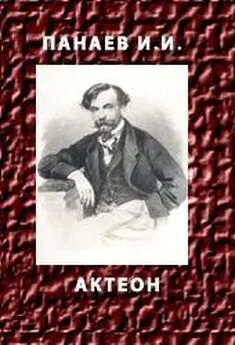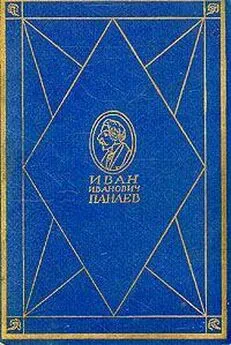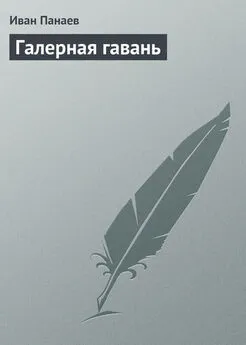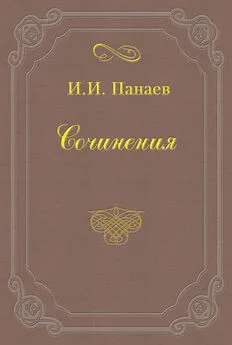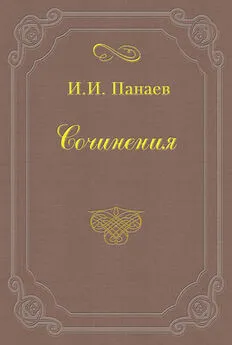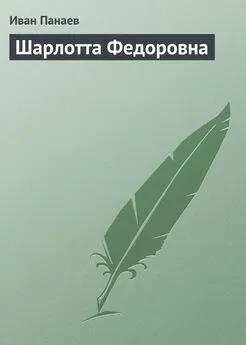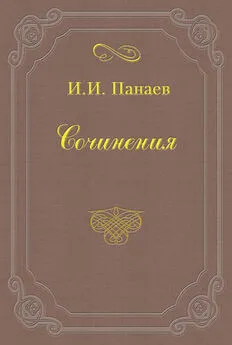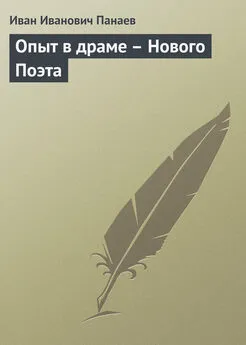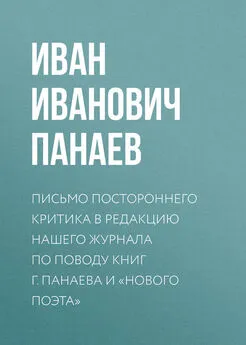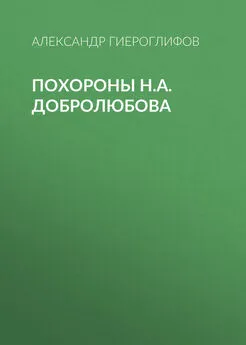Иван Панаев - По поводу похорон Н. А. Добролюбова
- Название:По поводу похорон Н. А. Добролюбова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Панаев - По поводу похорон Н. А. Добролюбова краткое содержание
Советским читателям известно имя Ивана Ивановича Панаева, автора "Литературных воспоминаний", замечательного образца русской мемуарной литературы XIX столетия. Но мало кто: знает в наше время другие произведения этого писателя — одного из талантливейших беллетристов и журналистов 1840- 1850-х годов.
Автор многочисленных очерков, рассказов и повестей, создавший реалистические картины русской жизни первой половины XIX века, ближайший помощник Некрасова по изданию журнала «Современник», мастер самых разнообразных журнальных жанров, — он навсегда связал себя с лучшими представителями русской общественной мысли и литературы — Белинским, Некрасовым, Чернышевским. Произведения Панаева представляют для советского читателя не только историко-литературный, познавательный интерес, но и живое, увлекательное чтение.
По поводу похорон Н. А. Добролюбова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Литературная деятельность Добролюбова, явившаяся через десять лет после Белинского, — эта деятельность, едва успевшая проявиться, тем не менее, однако, указывает очень резко на то, как ушло вперед новое поколение от поколения Белинского…
Добролюбов окончил курс в бывшем Педагогическом институте в 1857 году. Он начал принимать участие в критических отделах журналов еще будучи в институте, и одна из его библиографических статей, относящихся к этому времени, напечатанная в «Современнике», обратила на себя всеобщее внимание своим здравым взглядом и едкою ирониею. Статья эта наделала шум. Она была прочтена всеми. "Какая умная и ловкая статья!" — восклицали люди, никогда не обращающие никакого внимания на литературу… "Скажите, кто писал эту статью?" — слышались беспрестанные вопросы.
Ум и блестящие способности Добролюбова не могли не обратить на него особенного внимания лучших из его профессоров; и я помню, что на вечере у князя Щербатова, который был в то время попечителем Петербургского округа, целый вечер шли толки о Добролюбове и о том, какие блестящие надежды подает он.
— Жаль только одно, — заметил кто-то: — он, наверно, не вступит в службу…
Журналисты тотчас запутают его в свои сети, и он весь отдастся литературе…
Многие ученые присоединились к этому голосу и с своей стороны изъявили также сожаление.
Вышло действительно так. Добролюбов по выходе из института весь отдался литературе. Да и могло ли быть иначе?.. У него была глубокая, истинная, непреодолимая потребность высказаться посредством литературы; он глубоко чувствовал и сознавал свое призвание. Журналистам нечего было ловить его в свои сети, заманивать его: он сам твердо и сознательно вошел в литературу, как власть имеющий. И с первого же раза занял в ней видное место. Не уступая нисколько Белинскому в литературном таланте, Добролюбов имел уже преимущество перед ним в том, что получил основание несравненно более прочное и твердое; он с первого шагу стал на прямой путь, вполне сознавая, куда он ведет, и пошел по нем ровным и твердым шагом, не уклоняясь в стороны, не увлекаясь, не впадая в юношеский пафос, не подчиняясь и не кланяясь литературным авторитетам и не делая им ни малейших уступок. Никто так глубоко и верно, просто и здраво не смотрел на явления русской жизни и на последние произведения русской литературы; никто так горячо не сочувствовал нашим насущным общественным потребностям… В его статьях проглядывала та мощь, та внутренняя, сосредоточенная сила, которая обнаруживала в нем будущего великого двигателя; его статьи были проникнуты глубокою любовью к человеку, самым горячим участием к нашим низшим братьям и самым искренним и здравым патриотизмом… Они, несмотря на срочность и быстроту журнальной работы, развивались стройно, с изумительною логическою последовательностию, с каким-то внешним спокойствием, под которым, однако, слышалось биение горячего, любящего сердца и из-под которого проглядывал горький юмор человека, оскорбляемого всякою ложью, лицемерием и пошлостию… В статьях его не было и тени той внешней горячности, которая выражается обыкновенно в так называемых лирических выходках и отступлениях, которые нашим поколением ценились некогда очень высоко, но в настоящее время уже потеряли всякое значение и сделались более смешными, чем трогательными. Такие статьи, как "Темное царство" и "Забитые люди", я думаю, достаточно подтверждают сказанное. В одном из некрологов Добролюбова очень справедливо сказано, что его девизом и предсмертным завещанием своим близким собратам по труду было: "меньше слов и больше дела".
Деятельность Добролюбова была коротка (всего только четыре с половиною года), но она была изумительно плодотворна… Имя его не забудет история русской литературы!
Добролюбов вступил на литературное поприще одинокий, без всяких руководителей и покровителей (его гордой и сильной душе противно было меценатство), весь сосредоточенный в самом себе в 22 года и, при всей мягкости своих манер, если не холодный по наружности, то, по крайней мере, очень осторожный и сдержанный… Он едва очистил себе дорогу и проложил себе самостоятельный путь для действия, как смерть вдруг прерывает его — на недоговоренном слове… но, несмотря на это, он оставляет по себе в русской критике почти такой же глубокий след, какой оставил Белинский после 14-летней неутомимой деятельности… Чего нельзя было ожидать от такой духовной силы!
Да! сила его действительно была велика. Это был один из самых замечательных характеров по стойкости, твердости и благородству из всех литературных деятелей последнего двадцатипятилетия… Слово и дело никогда не противоречили в нем, и никогда в своих поступках он не допускал ни малейшего, самого невинного уклонения от своих убеждений. Другого, более строгого к самому себе человека в его лета трудно встретить…
На многих из нашего поколения, — людей, впрочем, очень замечательных и даровитых,
— Добролюбов своею сдержанностию, сосредоточенностию и наружным спокойствием, которые нередко смешиваются с холодностию и бессердечием, производил не совсем приятное впечатление. Известно, что наше поколение по преимуществу обладало восторженностию, лиризмом и увлечением и беспрестанно слова и фразы принимало за дело.
Если какой-нибудь малоизвестный нам господин говорил, например, при нас, сверкая глазами и ударяя себя в грудь, что он ставит выше всего на свете человеческое достоинство и готов жизнию пожертвовать за личную независимость или что-нибудь вроде этого, мы тотчас же бросались к нему в объятия, прижимали его, с слезой в глазу, к нашему биющемуся сердцу и восторженно, немного нараспев, восклицали: "Вы наш! О, вы наш!" и закрепляли союз с ним прекрасным обедом с шампанским и брудершафтом. Если появлялся молодой человек с некоторым талантом и притом с изящными манерами (что соединяется весьма редко в одном лице), мы немедля приближали его к себе, кричали всем встречным: "Какой талант появился! Чудо! чудо! Какая художественная сила, какой художественный такт!" и так далее, давали ему утонченные обеды, предлагали в честь его тосты и валялись с ним по диванам целые вечера, толкуя -
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: