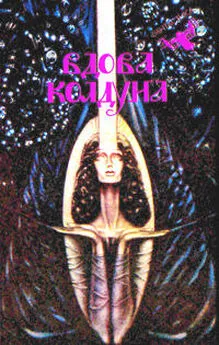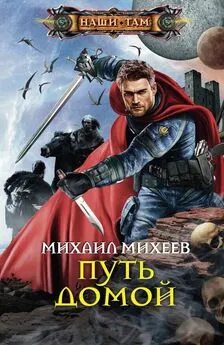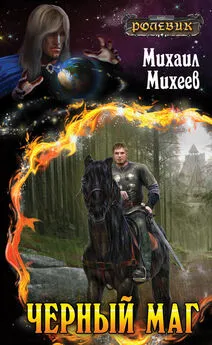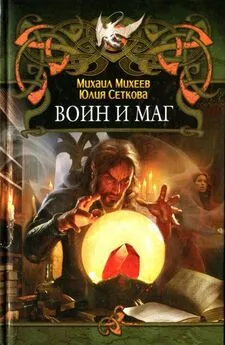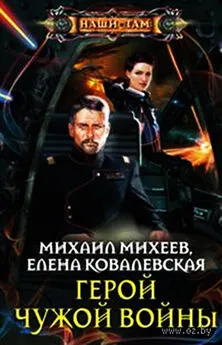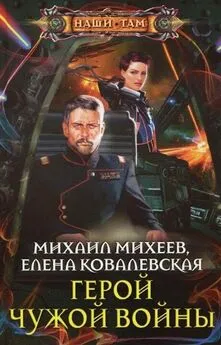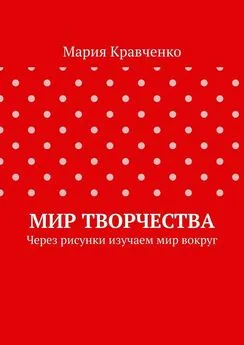Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Название:В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) краткое содержание
В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Прокофий дал труду специальное толкование, где труд раз навсегда объявлялся пережитком жадности и эксплуатационно-животным сладострастием, потому что труд способствует происхождению имущества, а имущество - угнетению..., создаются лишние вредные предметы (Ч:110).
Идеалы платоновского коммунизма - это не идеалы созидания и накопления, а - расточения, раздаривания, если не сказать даже - разбазаривания и порчи. Вот Гопнер возражает против НЭПа:
...Все мы товарищи лищь в одинаковой беде. А будь хлеб и имущество никакого человека не появится! Какая же тебе свобода, когда у каждого хлеб в пузе киснет, а ты за ним своим сердцем следишь! Мысль любит легкость и горе... Хлеб и любое вещество надо губить друг для друга, а не копить его (Ч:77).
Всем героям вменяется в обязанность аскетизм и строгое воздержание от приятия благ сего мира. В этом можно видеть продолжение яростно критикованных Розановым идей новозаветного христианства (Розанов 1911). Но ведь тем самым Платонов как будто призывает соблюдать никем не писаный закон "равномерности распределения продукта", в силу которого человек обязан делиться всем, чем обладает сам, при этом не упрекать другого за то, что тот обладает чем-то избыточным, а сам ни за что не должен приобретать такого, что превышает некий минимум усредненно-необходимого. Это некое продолжение Нагорной проповеди (надстройка над ней - для условий социализма). И это действительно была бы идеальная этика в нашем обществе. (Даже, кажется, есть личности, и теперь, после смены "идеологической парадигмы", как ни странно, продолжающие ее исповедовать.)
Борьба с энтропийными силами
Согласно Платонову, в природе действуют энтропийные силы, которые в своем развитии парадоксальным образом совпадают с этическим вектором (или с тем "нравственным законом" Канта, который наравне со "звездным небом" согревал некогда душу кенигсбергского философа).
Энтропия - это выравнивание, процесс, как известно, направленный против "увеличения сложности" системы и, в соответствии со вторым законом термодинамики, долженствующий со временем привести мир к эсхатологическому коллапсу, когда из чудом возникших и почему-то сохраняющихся островков цивилизации должна получиться равноразмешанная каша того же первичного вещества, на одной стороне которого когда-то начала кристаллизироваться жизнь со всеми ее "сложностями", а на другой - все увеличивающийся объем "мусора", отходов и разнообразного "невостребованного" вещества.
Согласно оптимистическим, "прогрессистским" воззрениям (таким, как у идеологов Возрождения или, в более современном виде, у Циолковского), человек завоевывает все большие пространства и будет далее распространяться по Вселенной, неся с собой "факел разума" и продолжая процесс, по сути дела противоречащий термодинамике (последовательно перерабатывая свои "отходы"). Согласно же пессимистическим (таким, как в христианстве Нового Завета или, например, у Константина Леонтьева), в результате возобладает иной процесс у последнего он назван "упростительным смешением", - когда мир будет разрушен и судим Высшим судией.
В текстах Платонова можно видеть как бы постоянный внутренний спор этих двух точек зрения. И опять-таки, как в настоящем метафизическом вопросе, для него нет разрешения. Ср. об этом в (Бочаров 1985).
На поверхности над всем господствует выравнивание: физиологическое и просто физическое нагревание остывшего (восстановление сил) или остужение перегревшегося (выход, расходование энергии человеком) - вот процессы, на которые прежде всего обращает внимание евнух души. Это как закон социального и этического выравнивания: уничтожение чрезмерных достижений ( оскопление) и наоборот, справедливое распределение ценностей ( "каждому по потребностям"). Но в глубине этого позитивистского энтропийного выравнивания и на его фоне идут постоянные поиски выхода к чему-то иному.
Главной заботой героев в пустом мировом пространстве, в котором они оказываются, является согревание и страх впустую потратить энергию. Прокофий, привезший в Чевенгур женщин, сразу же ложится спать от утомления:
Чепурный тоже склонился близ него.
- Дыши больше, нагревай воздух, - попросил его Прокофий. - Я чего-то остыл в порожних местах.
Чепурный приподнялся и долгое время часто дышал, потом снял с себя шинель, укутал ею Прокофия и, привалившись к нему, позабылся в отчуждении жизни (Ч:260).
Необходимый для поддержания жизни гомеостаз в организме может нарушаться в обе стороны: "женское начало" склонно к накоплению, увеличению тепла (но чрезмерное накопление энергии ведет к застою: отсюда тоска, мучение, тягость, постоянно терзающие героев), "мужское" же - склонно к расточению, расходованию энергии, что за определенной гранью тоже ведет к смерти, но уже - от недостатка жизненных сил.
Вот кошмар, который снится Дванову, когда он лежит на печи у солдатской вдовы, мучаясь от собственной несбывшейся и неизбывной, раздвоенной идеальной любви (к девушке Соне и к Революции):
От жарких печных кирпичей Дванов еще более разволновался и смог уснуть, только утомившись от тепла и растеряв себя в бреду. Маленькие вещи коробки, черепки, валенки, кофты - обратились в грузные предметы огромного объема и валились на Дванова: он их обязан был пропускать внутрь себя, они входили туго и натягивали кожу. Больше всего Дванов боялся, что лопнет кожа. Страшны были не ожившие удушающие вещи, а то, что разорвется кожа и сам захлебнешься сухой горячей шерстью валенка, застрявшей в швах кожи (Ч:322-323).
(Повтор того же мотива - в "Реке Потудани", когда героя во сне "душит своей горячей шерстью маленькое упитанное животное, вроде полевого зверька", залезшее в горло, ср. об этом Найман 1994.)
А вот иллюстрация второго полюса того же противопоставления:
И Чепурный шел ночною степью в глухоту отчужденного пространства, изнемогая от своего ессознательного сердца, чтобы настигнуть усталого бездомовного врага и лишить его остуженное ветром тело последней теплоты (Ч:156).
Этой же склонностью к расточению, расходованию себя объясняется постоянная тяга героев к дороге:
(Дванов и Копенкин уезжают от Достоевского, строящего социализм в своей деревне:)
Обоим всадникам стало легче, когда они почувствовали дорогу, влекущую их вдаль из тесноты населения. У каждого даже от суточной оседлости в сердце скоплялась сила тоски, поэтому Дванов и Копенкин боялись потолков хат и стремились на дороги, которые отсасывали у них лишнюю кровь из сердца (Ч:334).
Пафос основного переживания платоновских героев - от тщеты всего в том, что никакой сколько-нибудь твердой надежды на выход из энтропийного штопора они так и не находят. Все тот же примитивный материализм пронизывает их сознание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: