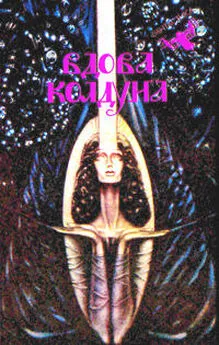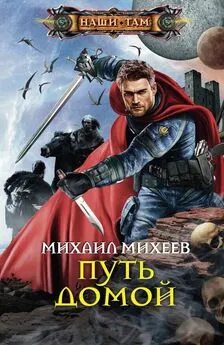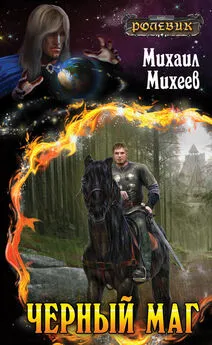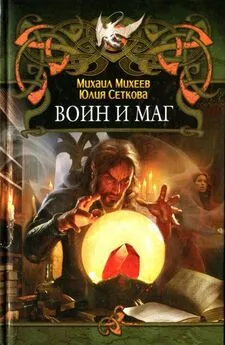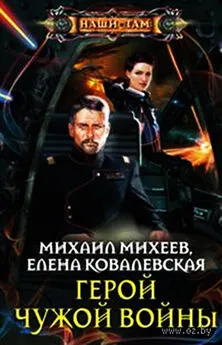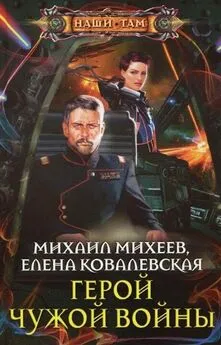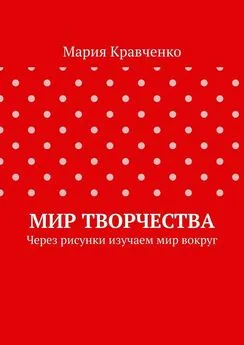Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Название:В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) краткое содержание
В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И в самом деле, парадоксально, что ближе всего содержание сознания "евнуха души" соответствует именно этому, то есть самому "внешнему", самому холодному среди вводимых в повествование героев (а может быть, кроме того, также и самому враждебному для автора: ведь уничтожение чевенгурской коммуны, скорее всего, происходит именно вследствие написанного и посланного им "отчета" в губернию). И тем не менее, авторский голос наиболее близок к голосу этого персонажа!
Сторож сознания; маленький зритель; мертвый брат; ночной швейцар в подъезде или евнух души человека... Для описания взаимодействия двух основных сфер сознания, рационального и чувственного Платонов вводит этот странный, ни на что ранее известное в литературе не похожий образ, навеянный, по-видимому, чтением Фрейда с его "научным" разложением психики на такие инстанции как Сверх-Я (оно же Совесть), Оно (Бессознательное) и Цензуру сознания. Этот евнух души и похож более всего на фрейдовского Цензора. (Пожалуй, наиболее близким к этой фигуре в литературе может быть признан герой Франца Кафки с его отстраненностью сознания от самого себя и разложением сознания на части. Но они оба - и Платонов и Кафка продолжатели идей того "человека из подполья", которого ввели в литературу еще Достоевский и Кьеркегор.)
Что такое безучастный зритель в человеке, поясняется в следующем отрывке "Чевенгура":
Но в человеке еще живет маленький зритель - он не участвует ни в поступках, ни в страдании, - он всегда хладнокровен и одинаков. Его служба это видеть и быть свидетелем, но он без права голоса в жизни человека и неизвестно, зачем он одиноко существует. Этот угол сознания человека день и ночь освещен, как комната швейцара в большом доме. Круглые сутки сидит этот бодрствующий швейцар в подъезде человека, знает всех жителей своего дома, но ни один житель не советуется со швейцаром о своих делах. Жители входят и выходят, а зритель-швейцар провожает их глазами. От своей бессильной осведомленности он кажется иногда печальным, но всегда вежлив, уединен и имеет квартиру в другом доме. В случае пожара швейцар звонит пожарным и наблюдает снаружи дальнейшие события.
Пока Дванов в беспамятстве ехал и шел, этот зритель в нем все видел, хотя ни разу не предупредил и не помог. Он жил параллельно Дванову, но Двановым не был.
Он существовал как бы мертвым братом человека: в нем все человеческое имелось налицо, но чего-то малого и главного недоставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется - так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара.
Это евнух души человека.
Характерно, что единственный в "Чевенгуре" герой, кроме Дванова, в котором также присутствует подобное раздвоение - с одной стороны, на живущего (здесь и сейчас) человека, и на его мертвого брата (то есть некую безликую сущность, существующую везде и всегда), с другой стороны, это Симон Сербинов. Но только в нем преобладает уже отрицательное, то есть безжизненное, исключительно умственное, а не живое начало, так что можно считать его в какой-то степени alter-ego Саши Дванова.
Мне кажется, вполне осмысленно считать, что в значительных частях повествование в романе и ведется от лица этого самого швейцара, надзирателя, или евнуха души человека (внешне персонифицированном, в частности, еще и в Сербинове), который только лишь строго и беспристрастно фиксирует все проходящие перед ним (или мимо него) события, но при этом фиксирует их так, что они выпадают из фокуса нашего, читательского зрения и почти перестают быть понятны для нас, для тех, кто неспособен к такому "нечеловеческому", поставленному с ног на голову, освобожденному от каких бы то ни было страстей и предпочтений, голому восприятию. (Своего высшего выражения, на мой взгляд, такая отстраненная от кого бы то ни было из героев манера повествования достигает у Платонова в "Котловане": там это как бы "голое сознание" Вощева.)
Точки зрения, "наблюдатель" в романе и "вменимость" в нем сна
Как я уже сказал, Платонов всюду избегает остановившейся, как-то фиксированной точки зрения. Его истинный мир - мир сновидчества и иносказания - лежит лишь где-то на границе сознания и бессознательного. Чьи-то чужие, часто не вполне понятно кому принадлежащие - размышления, описания эмоциональных состояний, намерений и желаний, обрывки каких-то разговоров, догадок, непроясненных до конца предположений, видений, снов и даже бреда - наводняют собой текст романа и составляют значительную часть всего повествования.
Но почему рассказ о путешествии героев в Чевенгур следует воспринимать как сон и - если это действительно сон, то кому же, собственно говоря, он принадлежит, кому, в конце концов, он снится? Кому следует "вменить" этот сон? - Однозначного ответа на поставленный вопрос сам Платонов не дает. На мой взгляд, намеренно. В тексте оставлено сразу множество "переходов", по которым можно было бы перекинуть мостик - из мира яви в мир кажимости: почти все заветные платоновские герои в том или ином месте по ходу романа окунаются (или - проваливаются?) в сон - и как сказано у самого Платонова, на время теряют свой ум - чтобы зарастить этим дневную усталость. Но таким образом, вообще говоря, любой персонаж, появляющийся "не только в воображаемой (сновидческой) реальности романа, а также и в других (хоть в какой-нибудь другой) потенциально может выступать неким связным, связником, то есть претендовать на то, что ему-то и принадлежит все видения о Чевенгуре или чаяния его! На мой взгляд, есть по крайней мере четыре возможности приписать основной сон тому или иному герою.
Во-первых, все это могут быть видения Гопнера, удящего рыбу на берегу реки и погруженного - за этим занятием - в сон. Во-вторых, это может быть сном Чепурного, также застигнутого спящим, среди бела дня прямо на лошади (о содержании сна, который он видит - точно так же, как и о содержании сна Гопнера, в романе подробно не сообщается). Спящего Гопнера видит проходящий мимо чевенгурский пешеход Луй, а Чепурного в соответствующем эпизоде разглядывает подъезжающий к нему на своем богатырском коне, Пролетарской Силе, Копенкин. Сам Копенкин при этом только что выехал в степь, заскучав, будучи оставлен надолго Двановым в деревне Черновке, где он исполняет должность председателя сельсовета. Дванов уехал отсюда в губернский город проверить, что же происходит в масштабе страны, какая там теперь власть. Копенкин же явно тяготится должностью и вынужденным бездействием. Поэтому опять-таки непонятно, является ли его выезд в степь реальным событием, происходящим в действительности провинциальной (внутри реальности странствия), или же это некое иносказание и знаменует собой переход в реальность сна? В-третьих, начинающееся в этом месте сказание о Чевенгуре может быть, так сказать, еще и "встречным" сном, а именно сном Копенкина! Здесь, в Чевенгуре, самостоятельные хронотопы странствия, остановленные для них обоих (для Чепурного с Копенкиным), соприкасаются друг с другом, переходя в пространство воображаемого, становясь как бы их общим, единым пространством, пространством некого коллективного бессознательного. Наконец, в-четвертых (что представляется вообще наиболее вероятным), - весь Чевенгур может сниться главному герою, Александру Дванову. В последнем случае количество подходящих моментов по ходу действия, когда Дванов мог бы увидеть сон о Чевенгуре, вообще не поддается подсчету. Явно выраженных объяснений, вроде: "то-то и то-то приснилось и (тогда-то)..." - у Платонова нет, но зато возможностей для привязки хронотопа сна к хронотопу странствия и даже к хронотопу реальной действительности в романе нарочно слишком много, чтобы мы, читатели, какую-нибудь из этих возможностей не использовали. Только выбор остается уж слишком неопределенным. Так много этих привязок, видимо, именно для того, чтобы размыть реальное положение дел, показать зыбкость и несущественность границ между действительным и воображаемым, - а возможно еще и для того, чтобы просто мистифицировать читателя относительно отнесения того или иного конкретного эпизода к яви действительной жизни или к субстанции сна (или же к субъективным переживаниям того или иного героя в романе).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: