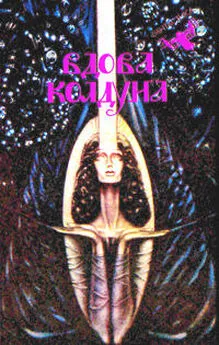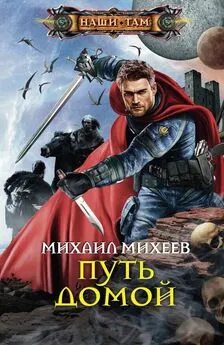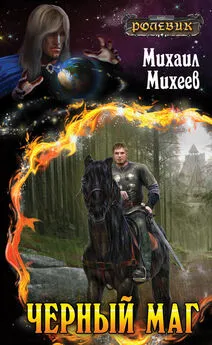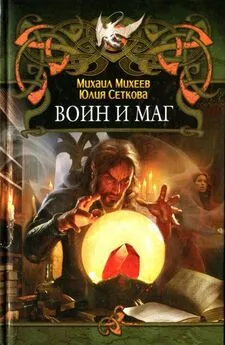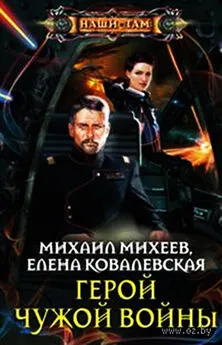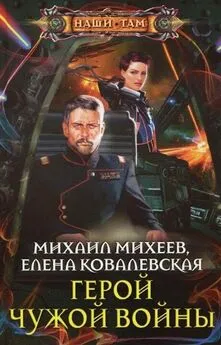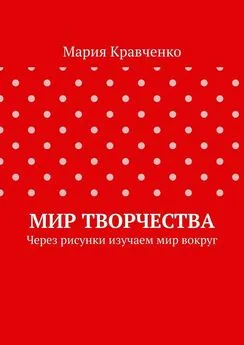Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Название:В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Михеев - В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) краткое содержание
В мир А Платонова - через его язык (Предположения, факты, истолкования, догадки) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ЯЗЫК ПЛАТОНОВА В ПРИТЯЖЕНИИ И ОТТАЛКИВАНИИ ОТ ЧУЖИХ СТИЛЕЙ[28]
При чтении Платонова на каждом шагу сталкиваешься со случаями избыточности, выходящей, казалось бы, за пределы всякой языковой дозволенности. Потенциально любое, представляющееся простым и обыкновенным выражение языка (или тот смысл, который можно было бы обозначить с помощью этого выражения) в тексте Платонова как будто пухнет, переполняясь повторами и "перепевами" одного и того же.
Так, если для нормативной речи могут считаться приемлемыми такие, условно говоря, "излишества", как: испытывать чувство, говорить слова, щурить глаза, или: спертый воздух, беспробудное пьянство, лай собаки, ведь, собственно, уже в них, в этих выражениях, предсказуемость второго элемента несвободного сочетания на основе первого очень высока: "чувство", грубо говоря, можно только - проявлять, выражать или испытывать; "щурить" можно только глаза или веки; "спертым" может быть только воздух, а "беспробудным" либо пьянство, либо сон. - Так вот, если некоторая избыточность характерна для самого языка, то Платонов эту избыточность намеренно усугубляет, доводит до парадокса: для него оказываются вполне "нормальными" такие выражения, в которых избыточность непомерно высока. Вот характерные для него словесные нагромождения, или способы "топтания мысли" на месте:
знать в уме, произнести во рту, подумать (что-то) в своей голове, прохожие мимо, простонать звук, выйти из дома наружу, (подождать) мгновение времени, (жить) в постоянной вечности, уничтожить навсегда, отмыть на руках чистоту и т.д и т.п.
Характерный пример употребления такого тавтологизма, в "Котловане": Козлов и сам умел думать мысли... (K)[29]
То есть: .
Здесь и далее в угловые скобки (часто с предшествующим им знаком вопроса) взяты Предположения, т.е. те смыслы, которые, как мне представляется, специально вызваны, или "наведены" автором внутри понимания данного трудного места читателем - как правило, такое и происходит в местах с повторами смысла[30].
Трудности в выражении или намеренное косноязычие? - тавтология, эпитет, figura etymologica, анаколуф,...
Вообще говоря, такого рода плеоназм как особый поэтический прием очень активно эксплуатируется Платоновым, и его можно соотнести с эпитетом, т.е. с аналитическим определением (как правило, прилагательным), или иначе, таким словом, которое не вносит в значение определяемого им (предмета, ситуации, явления, а значит, и соответствующих слов) ничего нового, не приписывает никакого нового признака или предиката, но лишь просто "украшает, расцвечивает" речь, повторяя признак, который известен и уже заключен в значении определяемого слова (как правило, существительного). Многие отмечают, что зачастую невозможно провести четкую границу между тем, что такое эпитет, и тем, что такое простое определение. Вот обычно приводимые примеры эпитетов из литературы и фольклора:
красное солнце (или: девица), белый свет (или: руки), чистое поле, ясный месяц (или: солнце, глаза), темная ночь, дремучий лес, острая сабля (или: зубы), холодный снег, широкая степь, синее море (или: небо), ясная (или: голубая) лазурь, теплый свет, жаркая печь (или: постель), серый волк, злая мачеха (или: тоска) и т.п.
Или же вот примеры эпитетов, взятых уже из "Российской Грамматики" М.В.Ломоносова (1755 года)[31] - в них принцип повтора общего признака остается тем же: долгий путь, быстрый бег, кудрявая роща, румяная (благовонная) роза, смердящий труп, горькая печаль.
Везде в приведенных примерах эпитет приписывает предмету его типовой признак, или же подхватывает (и повторяет) самое "яркое", известное всем свойство этого предмета; часто берется признак, характерный для определяемого явления вообще - как некой мыслимой, идеальной сущности.
Теоретики литературы различают среди эпитетов "тавтологические" и "пояснительные", а внутри последних - еще эпитеты-метафоры (черная тоска) и синкретические эпитеты (острое слово). Говорят также о "забвении", "застывании" или даже "окаменении" эпитета - когда быстрый корабль у Гомера служит для описания корабля, стоящего у берега (впрочем, и по-русски такое вполне допустимо: ср. быстроходный корабль); или когда в сербской песне, например, словосочетание белая рука оказывается применимо к рукам арапа; а в староанглийских балладах верная любовь выступает вполне естественным определением и по отношению к случаям супружеской неверности, (таким образом внутрь эпитета оказывается возможным поместить также и отношение противительности)[32].
Кроме того, можно соотнести платоновские повторы смысла также и с лексическим оборотом figura etimologica (типа петь песню, танцевать танец или сказать слово.)
Эпитеты характерны, с одной стороны, для народной поэзии, а с другой, также и для стиля классицизма. Но что же, Платонов пользуется приемами народной речи? или приводит свой текст к нормам классических образцов? Скорее, все-таки, нет: у него повторы смысла служат не украшением речи, а доведены до нарочитости, до вычурности, намеренно превращены в плеоназмы, сделаны какими-то неловкими и неказистыми - своего рода словесными "уродцами", или "недоумками" - по-видимому, для того чтобы нам, читателям, пришлось взглянуть на них не так, как мы обычно смотрим на языковые выражения, а уже отстраненно, как на "знакомых - незнакомцев". Платонов строит свою поэтику, остраняя действительность в некрасивом, неправильном, иногда даже отталкивающем.
Установка на намеренное косноязычие приводит к следующему результату: платоновские выражения как бы неизменно заводят нас, читателей, в тупик, или даже дурачат, оставляют в дураках. Это продолжается до тех пор, пока в поисках выхода мы как-либо не осмыслим встретившееся неграмматичное, "неправильное" сочетание, пока не припишем ему хоть какой-то дополнительный смысл, т.е., в простейшем случае, пока как-нибудь не подправим его своими же силами, опираясь на один (или сразу несколько) словосочетаний, привычных и ожидаемых нами в той ситуации, которая стоит (или же только угадывается, "сквозит") за всем "тупиковым", с точки зрения норм языка, местом в целом. В нашем читательском угадывании мы оперируем, конечно, только теми смыслами (и такими словосочетаниями), которые в языке стандартны и соответствуют правилам его грамматики (не неся никакой дополнительной "поэтической" функции). Иногда подходящий для такого осмысления вариант напрашивается сам собой и вполне однозначен, но чаще, все-таки, в сознании читателя оживают и пробуждаются сразу несколько смыслов-прототипов, претендующих на заполнение данного "трудного" места. На единственно правильный вариант (как было бы в идеале) наращивается другой, избыточный, мешающий и затрудняющий стандартное понимание. Это побочный, уводящий куда-то в сторону смысл. Но именно в таком "затруднении", "размывании" смысла, с при-остановкой стандартного, автоматического понимания и состоит важный принцип платоновской (или вообще всякой) поэтики. Это вполне соответствует тому, что составляет особый "слог", согласно "Поэтике" Аристотеля, для которого язык художественного произведения и должен был быть в какой-то мере незнакомым, чуждым, или просто чужим языком:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: