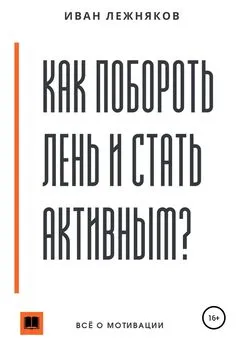Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования)
- Название:Для читателя-современника (Статьи и исследования)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Кашкин - Для читателя-современника (Статьи и исследования) краткое содержание
Для читателя-современника (Статьи и исследования) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Примат жизненности в искусстве означает, в частности, и то, что слово берется не как фетиш, не как вещь в себе, а во всех его смысловых стилистических и грамматических связях, как слово на службе у языка искусства. Важно, чтобы, читая слово, особенно в книге, которая не столько описывает, сколько изображает, мы действительно могли увидеть явления или понять мысль, а не ограничились "глазным чтением", не довольствовались условным и приблизительным словесным представлением или штампом, как своего рода словесной ширмой. Плохо, когда переводчик не понимает отдельных слов подлинника, но еще опасней, когда он тешит себя мыслью, что ему понятно все. Это кажущееся понимание может привести к большим ошибкам, потому что, только уяснив себе весь контекст, можно добраться и до оттенков, заложенных в отдельных словах.
Поверхностное, периферийное отношение, при котором выключены и мозг и сердце, когда читают подлинник одни только глаза и автоматически строчит перевод одна лишь рука, - такое отношение особенно опасно для переводчика. Поиски соответствий привязывают вещь к определенному слову. Но вещь или явление обычно многограннее, многозначнее. Они не покрываются одним словом, и чаще несколько слов, иногда заимствованных из разных языков, тяготеют к одной вещи или явлению. Для художественного перевода важен не перечень твердо фиксированных словесных соответствий как непробиваемый заслон на пути к полновесному слову, а терминологически точная и одновременно синонимически гибкая и богатая предметно-образная речь.
Если переводчику удается самому увидеть и своему читателю показать изображаемое с той же остротой и предметностью, как это сделал автор, переводчик тем самым в известной мере преодолевает вторичность своего жанра. Когда в переводе "Лесного царя" Жуковский, прекрасно зная Гёте, привносит от себя эпитеты в духе романтического подлинника (и "хладную мглу", и то, что "к отцу, весь издрогнув, малютка приник"), когда он вместо немецкого лесного царя с хвостом, который для русского читателя был бы не страшен, а смешон, дает бородатое лесное чудище, Жуковский поступает в переводе этого романтического текста как предметно мыслящий переводчик-реалист. А Фет в своей точной передаче деталей того же стихотворения явно натуралистичен. Но когда, по тонкому наблюдению И. Н. Медведевой, тот же Жуковский, слабо представляя себе, о чем идет речь, и в угоду своей индивидуальной романтической поэтике включает в перевод "Одиссеи" произвольные романтические эпитеты:
Много росло плодоносных дерев над его головою,
Яблонь и груш и гранат, золотыми плодами обильных,
Также и сладких смоковниц и маслин, роскошно цветущих,
то это можно понять в том смысле, что у гранатов золотые плоды, что скромные смоковницы и маслины "роскошно" цветут рядом с золотыми плодами яблок, то есть ранняя южная весна накладывается на позднее лето, и все описание приобретает совершенно условный, ирреальный характер, чуждый духу "Одиссеи". Это особенно ясно при сравнении тех же строк с переводом Гнедича, который, ясно представляя себе, что он переводит, передавал самую суть оригинала:
Вкруг над его головою деревья плоды преклоняли,
Груши, блестящие яблоки, полные сока гранаты,
Ярко-зеленые маслин плоды и сладкие смоквы.
Здесь, как и в своем переводе "Илиады", Гнедич проявляет себя переводчиком-реалистом.
При бережном воссоздании оригинала творческая манера переводчика служит раскрытию объективной действительности, показанной в подлиннике, посредством ее перевыражения. На этом пути возможно раскрыть и показать своеобразие автора, отражая при этом восприятие своей эпохи, страны, литературной школы и сохраняя свое переводческое лицо. Такая забота о подлиннике через себя, а не о себе через подлинник и есть настоящая оригинальность переводчика.
3. ПЕРЕВОДЧИК И РЕДАКТОР
В старину говорили, что мир стоит на трех китах. В наши дни считают, что для посадки самолета нужны три точки. Есть своя триада и в переводном деле. Для появления перевода необходимы у нас три участника: автор оригинала (творческую волю которого воплощает текст), затем переводчик и, наконец, редактор. Без первого нечего переводить, без второго некому переводить и не будет перевода, а без организующей работы третьего не выйдет в свет книга. Это треугольник, неразрывный, но не равносторонний.
Настоящий редактор - это чаще всего друг и сотоварищ переводчика. Это не тот горделивый редактор или редакторша, у которой на лбу словно высечена надпись: "Ecrivain ne puis, traducteur ne daigne, redacteur je suis", что по-русски значит примерно следующее: "Писателем не могу, переводчиком не хочу, редактор есмь!" Нет, идеальный редактор - это тот, кто при наличии некоторых добавочных обстоятельств или качеств мог бы сам стать и переводчиком и писателем, кто, во всяком случае, может быть организатором книги, первым критиком и советчиком, а для молодого переводчика иной раз и наставником.
В основном функции редактора в разных случаях сводятся к: 1) всесторонней организации и творческого и производственного процесса работы над переводной книгой, 2) всесторонней проверке перевода, 3) консультации переводчика.
Редактор - обязательный восприемник каждой появляющейся на свет книги. Направляющая роль редактора как всеобъемлющего организатора переводной книги ясна и бесспорна. Недаром наши лучшие переводчики хотят иметь редактора. Весь вопрос в том, чтобы это был настоящий редактор.
У него и самый подход к делу будет в ряде случаев если не глубже, то шире, чем у переводчика. И это естественно, если вспомнить, что сплошь и рядом переводчик работает над одним романом, а редактор имеет дело с собранием сочинений в целом, где особенно важна его организующая роль.
Что касается непосредственной работы редактора над текстом, то известная формула, по которой переводчику нужно знать, понимать и уметь, может быть распространена и на редактора.
Знать редактор должен, может быть, даже больше переводчика. Во-первых, язык, вернее - оба языка. Это аксиома. Однако редакционный процесс кое-где организован так плохо, что иногда редакция не обеспечена редакторами, знающими язык оригинала, и редактирование ведется, так сказать, вслепую.
Особенно важно для литературного редактора знать изобразительные и выразительные возможности своего языка. Ему, как и переводчику, надо быть филологом-практиком, а не просто фиксатором механических соответствий. Он должен знать историю русского языка, возраст и удельный вес русских слов. Он должен знать русскую фразеологию, привычные словосочетания и несоизмеримые слова (чтобы не уподобиться анекдотическим иностранцам, старательно изучавшим русскую идиоматику и спорившим, как лучше напутствовать друзей "доброго пути", "скатертью дорога" или "катись скатертью по дороге").
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


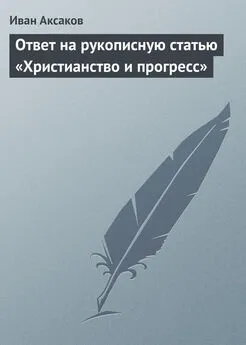



![Михаил Давидов - Тайны гибели российских поэтов: Пушкин, Лермонтов, Маяковский [Документальные повести, статьи, исследования]](/books/1071372/mihail-davidov-tajny-gibeli-rossijskih-poetov-push.webp)