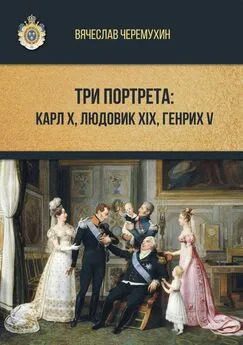Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
- Название:Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Соларт
- Год:2009
- Город:СПб
- ISBN:978-5-902543-21-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Гречнев - Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др. краткое содержание
В книге речь идет об особом месте так называемого малого жанра (очерк, рассказ, повесть) в конце XIX - XX вв. В этой связи рассматриваются как произведения Л.Толстого и Чехова, во многом определившие направление и открытия литературы нового века ("Смерть Ивана Ильича", "Крейцерова соната", "Скучная история", "Ариадна"), так и творчества И.Бунина, Л.Андреева и М.Горького, их связи и переклички с представителями новых литературных течений (символисты, акмеисты), их полемика и противостояние.
Во втором разделе говорится о поэзии, о таких поэтах как Ф.Тютчев, который, можно сказать, заново был открыт на грани веков и очень многое предвосхитил в поэзии XX века, а также - Бунина, в стихах которого удивительным образом сочетались традиции и новаторство. Одно из первых мест, если не первое, и по праву, принадлежало в русском зарубежье Г.Иванову, поэту на редкость глубокому и оригинальному, далеко еще не прочитанному. Вполне определенно можно сказать сегодня и о том, что никто лучше А.Твардовского не написал об Отечественной войне, о ее фронтовых и тыловых буднях, о ее неисчислимых и невосполнимых потерях, утратах и трагедиях ("Василий Теркин", "Дом у дороги").
Вячеслав Гречнев. О прозе и поэзии XIX-XX вв.: Л. Толстой, И.Бунин. Г. Иванов и др. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Такое варьирование, нагнетание одних и тех же или в чем-то сходных деталей позволяет Андрееву укрупнить масштабы исследуемой проблемы, вывести ее за пределы индивидуальной судьбы данного героя.
Господствующую тональность андреевского произведения, стилевую и смысловую окраску его определяет, как правило, уже первая фраза:
«В тот день, — читаем в рассказе «В тумане», — с самого рассвета на улицах стоял странный, неподвижный туман. Он был легок и прозрачен, он не закрывал предметов, но все, что проходило сквозь него, окрашивалось в тревожный темно-желтый цвет <���…> На тяжелом фоне его темные здания казались светло-серыми, а две белые колонны у входа в какой-то сад, опустошенный осенью, были как две желтые свечи над покойником <���…>
Печален и страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане» (Д, 1, 313).
Очевидно, что «туман» в данном случае — отнюдь не только деталь пейзажа. Этот образ, взятый в контексте, участвует в воссоздании символического плана рассказа, помогает приобщиться к тревожно-драматическим раздумьям и ощущениям центрального героя, Павла Рыбакова, который, заболев «постыдной» болезнью, чувствует себя отверженным, «прокаженным». Мы видим, что «туманом» покрыты не только улицы, дома и фигуры прохожих, но и, так сказать, душа Павла. Под влиянием всего случившегося с ним он действительно живет как в тумане. Понятно также, что все окружающее видится «в тревожном темно-желтом цвете» не только из-за тумана; дело еще и в специфическом угле зрения, в особенностях восприятия человека, решившегося на самоубийство. И Андреев уже в первом абзаце рассказа стремится соответствующим образом настроить читателя, упоминая «две белые колонны», которые (то ли из-за тумана, то ли потому, что так казалось обреченному на смерть) были похожи «на две желтые свечи над покойником».
Во всех упомянутых произведениях Андреева можно выделить две взаимосвязанные «преграды», стоящие на пути сближения человека с человеком, на пути взаимопонимания их. Первая, как уже отмечалось, обусловлена тем, что каждый живет в своем особом мире мыслей, чувств и подсознательных настроений. Об этом публицистически определенно сказано в рассказе Андреева «Город» (1902): «Каждый <���…> человек был отдельный мир, со своими законами и целями, со своей особенной радостью и горем, — и каждый был как призрак, который являлся на миг и, неразгаданный, неузнанный, исчезал. И чем больше было людей, которые не знали друг друга, тем ужаснее становилось одиночество каждого» (А, 1,258).
Исследуя этот «отдельный мир», писатель обнаруживает еще одну «преграду». Он приходит к выводу, что каждый из отдельных миров» диктует свои в высшей степени субъективные законы и принципы познания: представления человека о ближних, о скрытых мотивах их поведения, о том, что можно было бы назвать бытом души, по меньшей мере приблизительны, ибо нередко покоятся на домыслах и произвольных фантазиях.
Показателен с этой точки зрения рассказ «Призраки» (1904). Действие в нем происходит в психиатрической лечебнице. Герои рассказа пациенты этой больницы. Известно, что люди с больной психикой нередко привлекали внимание писателей. И если Гоголь как бы открывает этой темой XIX век, то венчают его Гаршин («Красный цветок»), Чехов («Палата № 6», «Черный монах»), М. Горький («Ошибка»), Ф. Сологуб («Мелкий бес»). Всякий раз при чтении такого рода произведений невольно возникает вопрос: почему сумасшедшие, для чего избирается эта скорбная тема? Сразу можно ответить: не ради болезни как таковой, ее истории и эволюции. Это не дело художника. Писателей интересуют другие аспекты. И прежде всего они размышляют о том, какая тончайшая грань отделяет человека нормального от «с ума сошедшего», как и о том, что определить это и не ошибиться бывает порой не только трудно, но и просто невозможно (всегда возникает вопрос, кто определяет и чем при этом руководствуется). Далее. У страдающих таким недугом есть нечто такое, что порой не мешало бы иметь, как это ни парадоксально, и вполне нормальным людям. Это и особая чувствительность, обостренность чувств, хорошо развитая интуиция и проницательность. И еще — и это, пожалуй, одно из важнейших свойств: необычайной силы сосредоточенность на решении какой-то своей проблемы или необыкновенная преданность идее, в которой соединяются и цель жизни, и высокий смысл ее.
Сумасшедший, человек ненормальный, — это тот, кто способен нарушить и нередко нарушает нормы, обычаи и условности, принятые в обществе, — этические, юридические, эстетические, иными словами, бросает вызов общепринятому порядку, строю жизни, общественному мнению. Проявляется это, как известно, в поведении, поступках, суждениях, в открытом высказывании «крамольных» идей и взглядов.
Понятно, что писателю не может не быть интересен такой человеческий материал, характер, что называется, на изломе, человек, изобличающий других и саморазоблачающийся, человек, позволяющий себе говорить правду, которую не принято или не нужно сообщать вслух, прилюдно, или высказывать какие-то глубоко затаенные, задушевные мысли, чувства, мечты.
Надо ли объяснять, что у нормального, обычного человека все это находится под спудом, за семью печатями; здесь же стихия болезни сметает все препоны, высвобождает энергию, бесстрашие — и тайное делает явным.
Да, писателю интересно это совершенно особое состояние, в котором острота мысли сочетается с разгулом фантазии, а накал страстей граничит с вдохновением, когда человеку так явственно представляется, что ему вполне по силам решать какие-то сверхмасштабные глобальные проблемы, быть изощренно тонким и всепонимающим. И еще: мир и люди в эти мгновения жизни видятся подчас в каком-то совсем особом свете — лучше, красивее, интереснее, а потому возникает обостренное желание жить, любить, творить, находить прелесть и очарование в самом процессе жизни, а не только в свершениях и достигнутых результатах.
Само собой разумеется, что все сказанное имеет отношение к героям литературы, к персонажам, порожденным творческой фантазией художника, для которого они и их болезнь — всего лишь особый художественный прием, принцип изображения, позволяющий вести речь о возможностях и пределах человека, о глубинах и тайнах его психологии, его жизни, в которой удивительным образом перемежаются комедия и трагедия, веселое и печальное, претенциозное и жалкое.
В рассказе «Призраки» два персонажа заметно больше других выдвинуты вперед и резко противопоставлены по типу своего отношения к действительности. Один из них Егор Тимофеевич Померанцев, столоначальник губернского присутствия. Он человек активный, деятельный, умеющий приспособиться к любым обстоятельствам, по натуре доброжелательный, всё и вся приемлющий и во всем умеющий найти нечто положительное, даже в сумасшедшем доме, где он устроился так, что его комната «приняла совсем уютный, даже праздничный вид» [176] Андреев Л. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2. — М., 1990. – С. 74 (далее ссылки на этот том даются в тексте). Горький и Леонид Андреев: неизданная переписка. – С. 382
. Другой персонаж, он без имени, являет собой человека нервно возбужденного и постоянно желающего передать свое беспокойство всем и каждому: где бы он ни находился, он отыскивал упертую или только притворенную дверь и начинал стучать в нее; если дверь открывали, он находил другую запертую дверь и начинал стучать снова. «И стучал дни и ночи, коченея от усталости. Вероятно, силою своей безумной мечты он научился стучать и в то время, когда спал — иначе он умер бы от бессонницы; но спящим его не видели, и стук никогда не прерывался» (С. 75).
Интервал:
Закладка: