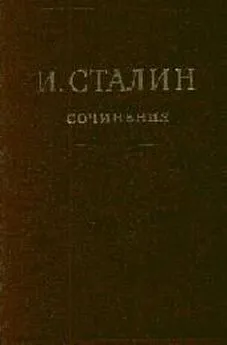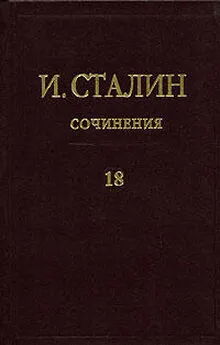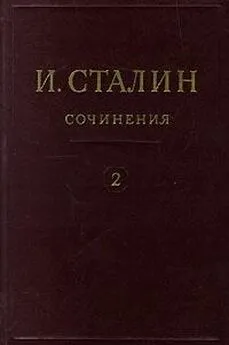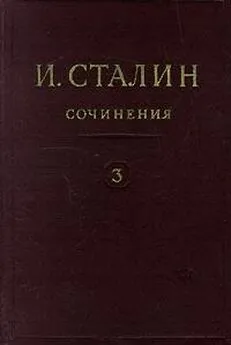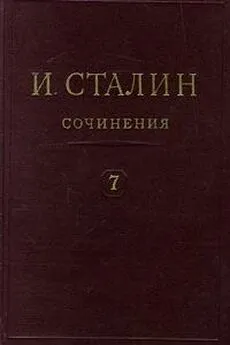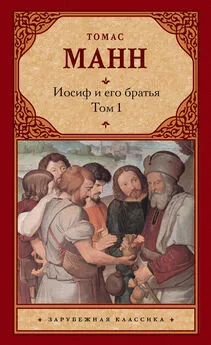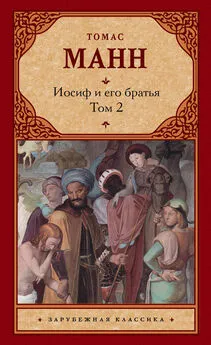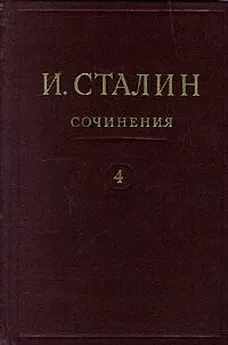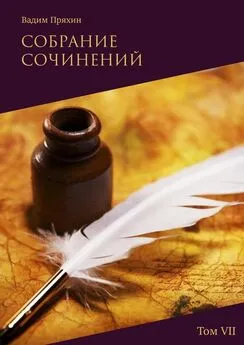Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII
- Название:Сочинения Иосифа Бродского. Том VII
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пушкинский фонд
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-89803-086-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иосиф Бродский - Сочинения Иосифа Бродского. Том VII краткое содержание
В седьмой том вошли эссе и статьи Бродского, не включенные автором в сборники «Меньше единицы» и «О скорби и разуме». Некоторые эссе печатаются по-русски впервые.
Эссе «Набережная неисцелимых», публиковавшееся отдельной книгой, редакция выделила в самостоятельный раздел.
Сочинения Иосифа Бродского. Том VII - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Позиция, в которой возникающий из этих стихов человек стоит по отношению к миру,— позиция не обвинительная и не всепрощающая. Эту позицию можно было бы назвать стоической; однако не всякий стоик пишет стихи. Не является данная позиция и созерцательной: слишком уж сильно тело автора вовлечено в водоворот истории, слишком сильно его сознание и — часто — его дикция замешаны на христианской этике. Точней всего было бы сравнить человека, возникающего из этих стихов, с настороженным наблюдателем — сейсмологом или метеорологом, регистрирующим катастрофы атмосферные и нравственные: вовне и внутри себя. При этом надо было бы только добавить, что наблюдает и регистрирует не его глаз и сознание, но язык — литовский или всечеловеческий, не суть важно. В случае Томаса Венцловы это одно и то же.
Лиризм его стихов фундаментален, ибо он начинается там, где нормальный человек — и подавляющее большинство поэтов — бросают дело и в лучшем случае переходят к прозе: на дне сознания, на пределе безрадостности. Песнь Венцловы начинается там, где голос обыкновенно пресекается, на выдохе, когда душевные силы исчерпаны. В этом — необычайная нравственная ценность поэзии Томаса Венцловы, ибо именно лиризм стихотворения, а не его повествовательный элемент является его этическим центром. Ибо лиризм стихотворения есть как бы обретенная автором утопия, и это сообщает читателю о его хотя бы психологическом потенциале. В лучшем случае эта «добрая весть» побуждает читателя к аналогичному душевному движению, к созданию мира на уровне, этой доброй вестью предложенном; в худшем — она освобождает его от зависимости перед реальностью, давая ему понять, что реальность эта — не единственная. Это — немало; именно за это всякая реальность поэта недолюбливает.
У каждого крупного поэта есть свой собственный, внутренний, идеосинкратический ландшафт, на фоне которого в его сознании — или, если угодно, в подсознании — звучит его голос. У Милоша — это его литовские озера или варшавские развалины, у Пастернака — московские задворки с черемухой, у Одена — индустриальная Средняя Англия (Мидлэнд), у Мандельштама — греко-римско-египетский коллаж из портиков и пилястров, внушенный архитектурой Петербурга. Есть такой пейзаж и у Венцловы. Венцлова — поэт северный, родившийся и выросший на берегу Балтийского моря, и пейзаж этот — пейзаж Балтики зимой, пейзаж монохромный, в котором преобладают краски сырые и пасмурные, что есть попросту верхний свет, сгустившийся до темноты. Перевернув страницу, читатель окажется именно в этом пейзаже.
Я надеюсь, что стихотворения Томаса Венцловы понравятся польскому читателю. Если нет, я с трудом представляю себе доводы, которые он может привести для объяснения своего неприятия. Во всяком случае, обычная в таких случаях ссылка на качество переводов в этом случае исключена, ибо большинство переводов в этой книге осуществлено Станиславом Баранчаком, и переводы эти феноменальны. Мало кому в истории английской, литовской и русской поэзии так повезло с переводами на польский язык, как авторам, которых перевел Баранчак. Переводы эти — не только акт беспримерной душевной щедрости польского поэта, но свидетельство его профессиональной конгениальности оригиналу. В любом случае, у чувства благодарности польского читателя — буде он таковое по прочтении этой книги испытает — два адресата: переводчик и автор. С другой стороны, выражение благодарности в данном случае облегчается тем, что у обоих — одна страна. Не так уж много, если вдуматься, изменилось в отношениях литовской и польской культур со времен Унии.
ВЗГЛЯД С КАРУСЕЛИ
1
Разговоры о погоде, заметил однажды польский юморист Станислав Ежи Лец, становятся интересными только при первых признаках конца света. То же самое относится к будущему — накануне значительных хронологических событий, ибо хронология — дитя эсхатологии.
В свою очередь, и дитя, и родитель — порождение неспособности сапиенса осознать феномен времени. Естественным последствием этой неспособности оказывается стремление одомашнить данный феномен, приспособить его к возможностям отпущенного ему, сапиенсу, рационального аппарата (феномен этот, судя по всему, и породившего). Отсюда все эти наши километры в час, календари, месяцы, годы, декады, столетия и тысячелетия; отсюда же линейная концепция времени и подразделение его на прошлое, настоящее и будущее.
Парадокс подобного подразделения, и в особенности парадокс будущего, состоит в том, что гарантирующие его смена дня и ночи и чередование времен года являются продуктом вращения планеты как вокруг своей оси, так и вокруг светила, т. е. процесса, по определению, непрерывно повторяющегося. В известной мере обитателя этого мира можно сравнить с юным наездником карусели, убежденным в том, что он соскакивает со своей лошадки не в том месте, где он на нее вскарабкался, а в качественно ином. Разница только в том, что наша карусель никогда не останавливается, что она постоянно в движении.
С движением, однако,— даже с кругообразным — обитатель этого мира привык отождествлять перемены: места, флоры, фауны, обстоятельств, психологического состояния. Это объясняется скромностью человеческого масштаба, поскольку человек перемещается не от звезды к звезде, но от подъезда к подъезду. Разнообразие их оформления, также как и разнообразие в облике обитателей здания или тех, кто попадается навстречу, ответственно за ощущение прогресса, за представление о движении как источнике нового качества.
Будущее, по существу, есть идея нового качества, и хронология — как бы нумерация подъездов длинной улицы, в сторону этого нового качества ведущей. Перспектива этой улицы — проспекта? авеню? — теряется в грамматическом мареве, поскольку в большинстве, по крайней мере, индоевропейских языков отношения между будущим временем и его глагольным эквивалентом всегда несколько напряженные. Это отчасти отражает противоречие между осознанием человеком его чисто биологической ограниченности и сравнительной беспредельностью его умозрительного потенциала.
Иными словами, человеческому мышлению присуща тенденция к неопределенности, более известная под именем утопичности (в равной мере дающая себя знать в деятельности как памяти, так и воображения), и концепция будущего суть одна из возможностей эту тенденцию выразить или удовлетворить. Будущее, мягко говоря, есть частная утопия индивидуума. Когда попытки ее осуществления сталкиваются с известными грамматическими трудностями, на помощь приходит хронология.
Как всякий переход от нормальной речи на язык цифр, хронология несколько упрощает дело. Будущее приобретает характер математической бесконечности, и цифры могут только расти, примиряя биологически ограниченное тело с физически недостижимой, но умопостигаемой перспективой. Всякий раз, когда цифра (число) оказывается круглой, будь то конец десятилетия, столетия или тысячелетия, общество приходит в состояние невнятного для него самого воодушевления и, близорукое по природе, предается оргии дальнозоркости и фантазиям о перемене миропорядка. Явление это именуется милленаризмом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: