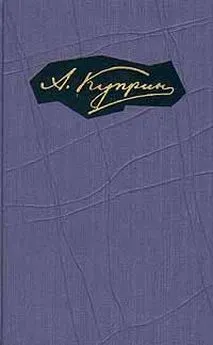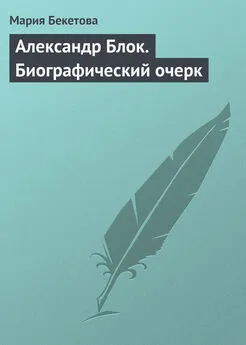Александр Блок - Том 5. Очерки, статьи, речи
- Название:Том 5. Очерки, статьи, речи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Государственное издательство художественной литературы
- Год:1962
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Блок - Том 5. Очерки, статьи, речи краткое содержание
Настоящее собрание сочинений А. Блока в восьми томах является наиболее полным из всех ранее выходивших. Задача его — представить все разделы обширного литературного наследия поэта, — не только его художественные произведения (лирику, поэмы, драматургию), но также литературную критику и публицистику, дневники и записные книжки, письма.
В пятый том собрания сочинений вошли очерки, статьи, речи, рецензии, отчеты, заявления и письма в редакцию, ответы на анкеты, приложения.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 5. Очерки, статьи, речи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Надо бы оговорить при всем этом то обстоятельство, что в декадентском общении было некогда много юношески (скорей — отрочески) трогательного. Публика действительно относилась когда-то к этой «группе» по-волчьи, члены группы (по крайней мере некоторые) были действительно когда-то связаны единством нежных утренних мечтаний и склонны были в утренних сумерках называть предметы совершенно различные одними и теми же именами. Можно бы еще кое-что оговорить, да стоит ли? Заветное всегда останется при нас, вспомнить для себя нам есть о чем, но для читателя тут нет ничего ни интересного, ни поучительного.
Самое время показало с достаточной очевидностью, что многие школьные и направленские цепи, казавшиеся ночью верными и крепкими, оказались при свете утра только тоненькими цепочками, на которых можно и следует держать щенков, но смешно держать взрослого пса. Правда, и до сих пор кое-кто из прежних «декадентов», утративший с «декадентством» всякую реальную связь, продолжает рычать и скалиться из декадентской будки, делая вид, что цепь, на коей он привязан, — так крепка, что разорваться не может; но сам прекрасно знает, что стоит ему рвануть покрепче, как полетит за ним вся декадентская будка. А сколько вреда и путаницы вносит тот, кто продолжает сидеть в ней, несмотря на то, что его так и тянет на свежий воздух.
То обстоятельство, что декаденты, прежде взапуски хвалившие друг друга, теперь взапуски бранятся, стало тоже привычным и тоже ничего не говорящим фактом. Серьезной-то «дифференциации» никогда не было, потому что никто, в сущности, ни с кем не соединялся и не разъединялся и настоящей школы не было никогда. Это так же ясно, как то, что ее не будет, ибо современные подражатели только компрометируют учителей, а не учатся. Сергеев-Ценский существует, лишь поскольку не подражает Андрееву, Лазаревский — Чехову, а Рославлев — Брюсову. Многие и вовсе не существуют, потому что умеют только списывать — талант гимназический, а не литературный. Не значит ли это, что «не стоило огород городить» и что «поколения русских символистов» и прочее были изобретением критики?
Какие же выводы? Вывод тот, что русский писатель по-прежнему один, может быть гораздо более один, чем во времена кружков Белинского и Станкевича. И всегда это сказывается особенно ярко в ту минуту, когда начинают толковать о «дифференциации», предполагающей наличность «станов».
Станов у писателей нет, есть отдельные писатели и есть кружки. Из первого факта выходит ряд ничем между собою не связанных, но значительных произведений, вроде «Исповеди» и «Огненного ангела»; из второго факта давно уже не выходит ничего, кроме разложения и вреда, и потому надо желать окончательного распадения всяких кружков и истребления литературной кружковщины.
Общение же между писателями русскими может устанавливаться, по-видимому, лишь постольку, поскольку они не писатели, а общественные деятели, собутыльники, кошкодавы, что угодно. Русские же символисты, андреевцы, арцыбашевцы — все это решительно понятия нереальные, нагоняющие лишь смертельную скуку.
5. Тройка
Я вовсе не претендую даже на правильность направления этих сотен беспорядочно набросанных вопросов. Все дело в том, чтобы они «возникли из небытия», чтобы они были поставлены и не замолчаны. Вопрос всегда есть как бы молния, озаряющая настоящее, но только настоящее. В следующий момент должно возникнуть уже разрешение его; и лучше неверное разрешение, чем молчание. То, что стоит неотступно перед чувством и разумом, потребует наконец своего разрешения — волей.
Если мы опустим на минуту медленный занавес над тревожным и блистательно-пестрым действием, уже не видно будет непрестанной суетни царей, шутов и солдат, уже не раздразнит взора бесконечная пестрота их одежд и распрей. Будет слышен только несмолкаемый гул, с преобладанием одной какой-то все возрастающей ноты.
Когда Гоголь опустил занавес над действием своих «мертвых душ», он услыхал возрастающее бормотание бубенцов, далекий топот и крики ямщика — лёт бешеной тройки, «вдохновенной богом».
«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух».
Среди суеты и многолюдства нам надо иногда опускать занавес, прислушиваться к тишине, внимать приближению бога, вникать в разрастающиеся звоны набегающей тройки, благодатной, сходящей на нас красавицы — России:
Так и ты, встречая бога,
Сердце, стань… Сердце, стань…
У последнего порога,
Сердце, стань… Сердце, стань…
Жертва, пей из чаши мирной
Тишину, Тишину! —
Смесь вина с глухою смирной —
Тишину… Тишину…
Ноябрь 1908
Ирония
Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и нежившим,
А нам с тобой, — так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, -
Нам рано предаваться ей.
НекрасовСамые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью, незнакомой телесным и духовным врачам. Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Ее проявления — приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается — буйством и кощунством.
Я знаю людей, которые готовы задохнуться от смеха, сообщая, что умирает их мать, что они погибают с голоду, что изменила невеста. Человек хохочет, — и не знаешь, выпьет он сейчас, расставшись со мною, уксусной эссенции, увижу ли его еще раз? И мне самому смешно, что этот самый человек, терзаемый смехом, повествующий о том, что он всеми унижен и всеми оставлен, — как бы отсутствует; будто не с ним я говорю, будто и нет этого человека, только хохочет передо мною его рот. Я хочу потрясти его за плечи, схватить за руки, закричать, чтобы он перестал смеяться над тем, что ему дороже жизни, — и не могу. Самого меня ломает бес смеха; и меня самого уже нет. Нас обоих нет. Каждый из нас — только смех, оба мы — только нагло хохочущие рты.
Это — не беллетристика. Многие из вас, углубившись в себя без ложного стыда и лукавства, откроют в себе признаки той же болезни.
Эпидемия свирепствует; кто не болен этой болезнью, болен обратной: он вовсе не умеет улыбнуться, ему ничто не смешно. И, по нынешним временам, это — не менее страшно, не менее болезненно; разве мало теперь явлений в жизни, к которым нельзя отнестись иначе, как с улыбкой?
Много ли мы знаем и видим примеров созидающего, «звонкого» смеха, о котором говорил Владимир Соловьев, увы! — сам не умевший, по-видимому, смеяться «звонким смехом», сам зараженный болезнью безумного хохота? Нет, мы видим всегда и всюду — то лица, скованные серьезностью, не умеющие улыбаться, то лица — судорожно дергающиеся от внутреннего смеха, который готов затопить всю душу человеческую, все благие ее порывы, смести человека, уничтожить его; мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаянье, себя и близких своих, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: