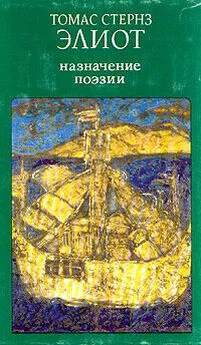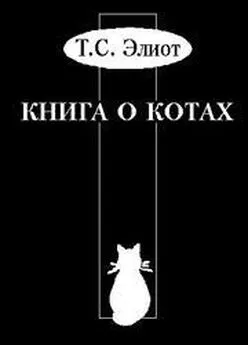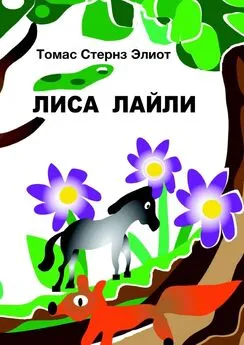Томас Элиот - Назначение поэзии
- Название:Назначение поэзии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЗАО Совершенство
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-89441-001-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Томас Элиот - Назначение поэзии краткое содержание
В книге выдающегося англо-американского поэта, лауреата Нобелевской премии Томаса Стернза Элиота собраны теоретические статьи разных лет и цикл лекций «Назначение поэзии и назначение критики» (1933). Эта книга впервые представляет русскоязычному читателю Элиота — критика и теоретика литературы.
Перевод с английского.
Назначение поэзии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Почему же Элиот находит возможным, обращаясь к двум поэтическим текстам, с одной стороны, игнорировать неверные с. точки зрения современной астрономии и физики соображения Данте о структуре вселенной, а с другой — резко критиковать абстрактные идеи Шелли? В "Назначении поэзии и назначение критики" Элиот подробно разъясняет свою позицию. Всех поэтов, так или иначе обращающихся к философии, он разделяет на две группы: на "тех, кто ставит свои вербальные, ритмические дарования на службу своим заветным идеям, и на тех, кто использует идеи, которых более или менее осознанно придерживается, как материал для поэзии". Последние (Данте, Лукреций) подавляют свои частные, личностные интересы и взгляды, сохраняя при этом верность истине, то есть художественной форме. В свою очередь; художники, принадлежащие к другой группе, подчиняют поэтическую форму собственным интересам. Среди них Элиот выделяет особо Гете, Вордсворта и Шелли, которые, по его мнению, привлекают поэтическую форму с единственной целью — украсить собственные философские воззрения. Они следуют не законам формы, а устойчивым моделям обыденного мировосприятия. Происходит, таким образом, вторжение личностного в сферу поэтической реальности. Разрушается единство художественной формы. Логика воображения, которой требуется эстетическое целое, подменяется привычными причинно-следственными связями.
Философские воззрения Шелли не стали в его поэмах частью эстетического целого. Потому читатель (в данном случае Элиот имеет в виду самого себя) воспринимает эти воззрения как таковые, вынося суждения об их истинности или неистинности. В сущности читатель вынужден оценивать не Шелли-поэта, а Шелли-мыслителя и Шелли-человека. "Я нахожу его идеи отталкивающими, — пишет Элиот, — а отделить Шелли от его идей и убеждений труднее, чем Вордсворта. Поскольку биография Шелли всегда вызывала интерес, трудно читать его поэзию, не помня о человеке, а человек был неостроумным, педантичным, эгоцентричным, иногда почти подлецом".
Затрагивая вопрос о роли идей в поэзии, Элиот приводит цитату из известного письма Джона Китса, где тот явно предвосхищает собственно концепцию Элиота, утверждая, что Вордсворт пренебрегает истиной (которая приравнивается в системе Элиота к поэтической форме) ради своего интеллектуального материала.
Позицию Китса, столь схожую со своей собственной, Элиот объясняет тем, что Китс еще в начале XIX в. заговорил о величественной природе искусства: "Гениальные люди в своем величии подобны неким эфирным препаратам, действующим на массу нейтрального интеллекта, — но не имеют никакой индивидуальности или определенного характера".
Итак, философская теория в литературном произведении должна, согласно Элиоту, обрести внеиндивидуальный характер, то есть формализоваться. Тогда она станет фактом подлинного освоения реальности.
Важнейшей составной частью литературно-критических воззрений Элиота является теория литературной традиции. Она по сути дела повторяет теорию "объективного коррелята" с той только разницей, что вопрос о внеличностной природе искусства рассматривается здесь на историко-культурном уровне.
Элиот, придерживавшийся представления об изначальном несовершенстве человеческой природы, подобно И. Бэббиту и Т. Хьюму, развивал эту идею применительно к творческой индивидуальности и художественной форме. Одно из своих самых известных эссе, "Бодлер" (1930) Элиот завершает большим отрывком из хьюмовских "Размышлений". Приведем финал этой цитаты: "Человек изначально плох, он может добиться чего-либо существенного при помощи дисциплины, этической и политической. Дисциплина, таким образом, имеет не только отрицательный, но и конструктивный, освободительный смысл. Необходимы институты". [16] Eliot T.S. Selected Essays. — L., 1963. — P. 430.
Согласно Хьюму, человек обязан признавать власть, ограничивающую его, авторитеты и, наконец, абсолютные, вечные ценности. В искусстве он призван не выражать свое "я", имеющее преходящий характер, а воссоздавать именно вечные ценности, сохраняя тем самым преемственность поколений художников.
Элиот, выдвинув концепцию "внеличностного искусства", как и Хьюм, прежде всего стремился обнаружить тот самый механизм, который ограничивает обыденную личность, ту власть, что довлеет художнику и не позволяет ему свернуть на путь бесплодного самовыражения. Таким механизмом стала для Элиота традиция, а точнее говоря, представление о традиции, которое формируется "чувством истории". В эссе "Традиция и индивидуальный талант" Элиот пишет: "Традиция прежде всего предполагает чувство истории, совершенно необходимое каждому, кто хотел бы остаться поэтом, перешагнув рубеж двадцатипятилетия; в свою очередь это чувство истории предполагает ощущение прошлого не только как прошедшего, но и как настоящего; оно заставляет человека творить, ощущая в себе не только собственное поколение, но и всю европейскую литературу, начиная с Гомера (а внутри нее — и всю литературу собственной страны) как нечто, существующее одновременно, образующее единовременный ряд".
Литература прошлого безусловно отстоит от современной по времени и материалу. Однако подлинный поэт, считает Элиот, не отбрасывает ее достижений в области языка, а, напротив, сохраняет. В его поэтической речи начинает звучать голос его литературных предшественников. Поэтическое выражение аккумулирует в себе традицию его использования на протяжении всей истории, проявляя не сиюминутный, а вечный смысл, актуальный для поэтов прошлого. В нашей работе мы уже говорили о том, что эмоция искусства всегда предполагает соединение конкретного и всеобщего. В свете теории литературной традиции всеобщее (Абсолютное, по Бредли) следует понимать как общекультурное, архитипическое.
Пассивного знания произведений прошлого, восприятия их как памятников ушедшим эпохам явно недостаточно, считает Элиот.
Поэт должен активно воздействовать на прошлое, открывать в нем вечное начало, которое делает литературное прошлое, во-первых, бессмертным, во-вторых, тождественным настоящему. Элиот ни в коем случае не отождествляет "традиционность" с эпигонством. Он только определяет необходимую направленность литературы — тенденцию к совершенствованию языка, к исчерпыванию его возможностей. В том случае, когда чувство опосредовано разумом и воссоздано в слове, поэзия приближается к идеалу. Теория традиции, конечно, консервативна и догматична, ибо она предполагает только одну модель художественного творчества и отрицает какие бы то ни было другие. Но, с другой стороны, традиция не является чем-то раз и навсегда заданным. Поэт не может механически перенять ее у своих предшественников: "Ее (традицию — А.А.) нельзя унаследовать, — пишет Элиот, — и если вы стремитесь к ней, то вы сможете овладеть ею, приложив огромный труд". Понимание традиции формируется усилиями индивидуального сознания. Ее основа — конкретное передвижение реальности, которое затем в процессе творчества приобретает универсальное значение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: