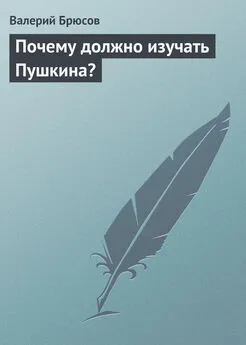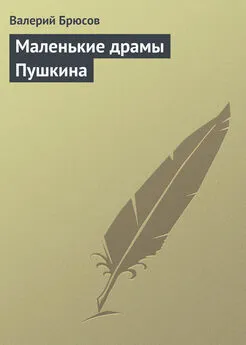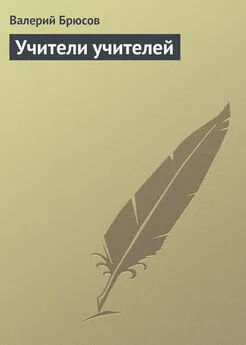Валерий Брюсов - Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей
- Название:Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Художественная литература
- Год:1973
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Брюсов - Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей краткое содержание
Настоящее собрание сочинений В.Я. Брюсова — первое его собрание сочинений. Оно объединяет все наиболее значительное из литературного наследия Брюсова. Построено собрание сочинений по жанрово-хронологическому принципу.
В настоящий том вошли избранные статьи о жизни и творчестве Пушкина, статьи об армянской литературе, а также большое исследование о взаимоотношениях культур народов мира — «Учители учителей».
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 7. Статьи о Пушкине. Учители учителей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Обратимся к фактам. Пушкин всю жизнь высоко чтил память Радищева. В тех же «Исторических замечаниях» 1822 года он иронически перечисляет: «Екатерина любила просвещение, а Новиков, распространивший первый луч его, перешел из рук Шешковского [46] «Домашний палач кроткой Екатерины», примечание самого Пушкина.
в темницу, где и находился до самой ее смерти; Радищев был сослан в Сибирь; Княжнин умер под розгами…» и т. д. А в конце жизни, создавая свой «Памятник», Пушкин, в первой редакции, прежде всего поставил себе в заслугу то,
Что вслед Радищеву восславил я свободу.
Когда Пушкину удалось начать издание собственного журнала — «Современник», — он стал думать об том, чтобы напомнить русскому обществу о Радищеве. Еще в 1833 или 1834 году Пушкин написал о Радищеве обширную статью под заглавием «Мысли на дороге». В этой статье, применяясь к цензуре николаевских дней, он не поскупился на осудительные отзывы о Радищеве: Пушкин знал, что читатель его времени умеет читать «между строк»; важно было так или иначе заговорить в печати о великом деятеле прошлого века, самое имя которого было тогда под опалой. Увы! — напрасные старания! — статья не была разрешена цензурой, несмотря на эти уловки. Для «Современника» Пушкин попробовал сократить статью, подчеркнуть в ней «лояльность», добиваясь одного — говорить о Радищеве. Столь же бесполезные усилия! И сокращенная статья 1836 года, озаглавленная «Александр Радищев», не была пропущена цензурой [47] Министр народного просвещения С. С. Уваров писал по поводу статьи «Александр Радищев», представленной в цензуру: «Нахожу, что она по многим заключающимся в ней местам к напечатанию допущена быть не может… нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и о книге, совершенно забытых и достойных забвения».
. Теперь эти две статьи остаются грустным памятником того, как великому Поэту приходилось искажать, вернее, маскировать свои мысли, чтобы исполнить долг журналиста и гражданина.
Однако и в искаженном виде статьи довольно красноречивы, и подлинную мысль Пушкина вскрыть не так трудно: цензура 30-х годов оказалась достаточно проницательной, «на высоте своего призвания». В конце концов, Пушкин был наивен, думая, что цензура его времени могла пропустить, хотя бы и «под соусом» осуждения Радищева, все то, что автор хотел сказать читателям в своей статье.
Пушкин, например, мечтал перепечатать ту страницу из «Путешествия» Радищева, где он говорит о продаже крепостных (гл. IX). «Публикуется, — пишет Радищев и повторяет за ним Пушкин, — сего… дня, по полуночи в 10 часов, по определению уездного суда или городского магистрата, продаваться будет с публичного торга отставного капитана Г. недвижимое имение… и при нем шесть душ мужского и женского полу… Желающие могут осматривать заблаговременно». К этой выписке Пушкин сам добавляет: «Следует картина, ужасная тем, что она правдоподобна. Не стану теряться вслед за Радищевым в его надутых, но искренних мечтаниях… с которыми на сей раз соглашаюсь поневоле». Выражения «надутых» и «поневоле» были поставлены Пушкиным, конечно, для цензуры, — как мы видели, напрасно.
В следующей (X) главе Пушкин мечтал перепечатать рассказ Радищева о «некоем» помещике, который постарался «уподобить крестьян своих орудиям, ни воли ни побуждения не имеющим», а для того «всех крестьян, жен и детей их заставил во все дни года работать на себя», кормя их «в мясоед пустыми щами, а в постные дни хлебом с квасом», отбирая у них, по своему произволу, последнюю курицу, и т. д. Сделав длинную выписку из «Путешествия», Пушкин добавляет от себя: «Помещик, описанный Радищевым, привел мне на память другого, бывшего мне знакомого… Этот помещик был род маленького Людовика XI. Он был тиран, но тиран по системе…» Далее следует описание того, как этот помещик систематически разорял своих, «как говорится, избалованных» крестьян, — описание, очень близкое к злой пародии в «Истории села Горюхина».
В одной из следующих глав (XI) Пушкин применяет другую уловку: он приводит цитату из Лабрюера о французском крестьянине, надеясь, что читатели сумеют применить ее к русскому мужику: «Существуют некие дикие животные, самцы и самки, водящиеся в деревнях, черные, бледные, сожженные солнцем, привязанные к той земле, которую они роют и перерывают с непобедимым упорством. Они издают как бы членораздельные звуки и, когда встают на ноги, являют человеческое лицо; да и в самом деле это — люди. Ночью они прячутся в свои норы, где они питаются черным хлебом, водой и кореньями. Они избавляют других людей от труда пахать, сеять и жать и заслуживали бы хотя того, чтобы не нуждаться в том хлебе, который сами они посеяли ». И опять, как в «Евгении Онегине», это не значит, что Пушкин считал русского мужика полуживотным по природе; в той же главе он прямо говорит: «Взгляните на русского крестьянина: есть ли и тень рабского уничижения в его поступи и речи? О его смелости и смышлености и говорить нечего. Переимчивость его известна…», и т. д. Пушкин хотел только представить то состояние, до которого был доведен крестьянин существующим строем.
Можно было бы еще далеко продолжить выписки из статей Пушкина о Радищеве. В параллель к рассказу Татьяниной няни можно было бы указать на приводимый Пушкиным анекдот (гл. IV), как одна старуха на вопрос: по страсти ли вышла она замуж, отвечала: «по страсти, я было заупрямилась, да староста грозил меня высечь», причем Пушкин поясняет: «неволя браков — давнее зло». Можно было бы повторить цитаты Пушкина из Радищева и собственные слова Пушкина о рекрутском наборе среди крестьян (гл. V), где Радищев говорит: «трудна солдатская жизнь, не лучше петли», а Пушкин напоминает, что крестьяне часто изувечивают себя во избежание солдатства, что помещики прямо «торгуют судьбой бедняков», при сдаче рекрутов, и т. д. Но общий дух, общий смысл статей Пушкина о Радищеве вполне ясен и из приведенных мест. В этих статьях, написанных в последние годы жизни (1833–1836), Пушкин нисколько не изменил тем своим взглядам на крепостное право, какие высказывал в юности, в кишиневских «записках».
Политические взгляды Пушкина на всем протяжении его недолгой жизни до сих пор не были еще внимательно расследованы. До сих пор еще господствует ошибочное мнение, будто в отношении политических убеждений жизнь Пушкина разделяется на две, совершенно несходные половины: будто Пушкин был радикалом в юности и монархистом, «царистом» в последние годы. На частном случае, на отношении Пушкина к крепостному праву, мы постарались показать, что это не так [48] В другом месте, в более обширном исследовании, мы надеемся доказать и более общее положение: что Пушкин до конца жизни остался верен «вольнолюбивым надеждам» своей юности.
. «Дубровский» (1832–1833 гг.), «Капитанская дочка» (1833–1834 гг.), тем более статьи о Радищеве (1833–1836 гг.), даже «История села Горюхина» (1830 г.), — все это произведения второй половины жизни Пушкина. Он до конца продолжал быть убежденным в том принципе, который выставил в 1822 году: «политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян».
Интервал:
Закладка: