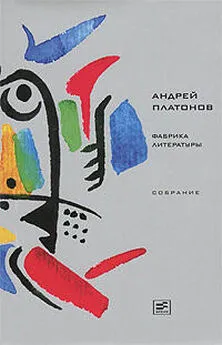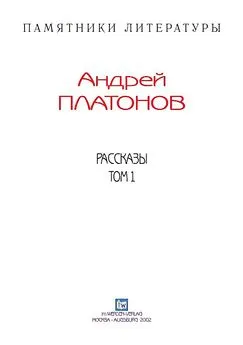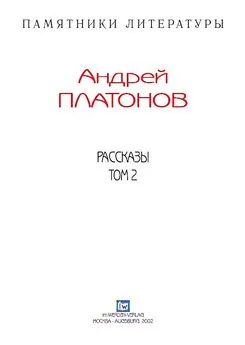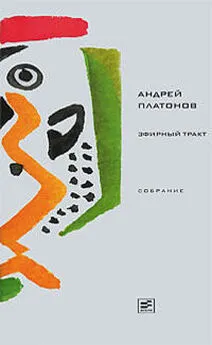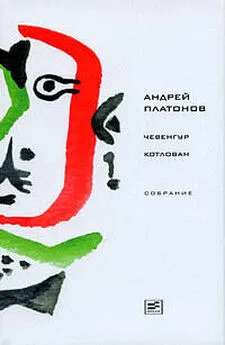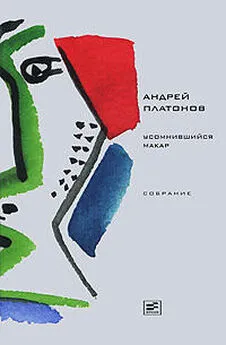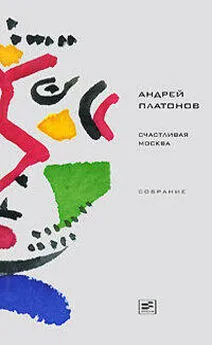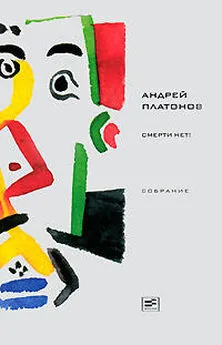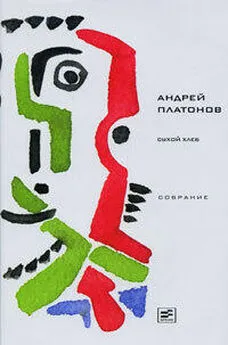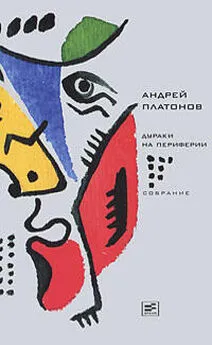Андрей Платонов - Том 8. Фабрика литературы
- Название:Том 8. Фабрика литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Время
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9691-0481-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Платонов - Том 8. Фабрика литературы краткое содержание
Перед вами — первое собрание сочинений Андрея Платонова, в которое включены все известные на сегодняшний день произведения классика русской литературы XX века.
В этот том вошла литературная критика и публицистика 1920-1940-х годов.
К сожалению, в файле отсутствует часть произведений.
http://ruslit.traumlibrary.net
Том 8. Фабрика литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так кто же такой был Корчагин — Островский? Его любили все женщины, которые живут и проходят в романе, его полюбил теперь весь наш советский народ, к нему обратятся за помощью и другие народы, когда узнают его. Он был самым нежным, мужественным и верным сыном рабочего народа. И в наши годы, когда фашизм стремится отравить весь мир ложью, шпионажем, предательством, разобщить людей в одиночестве, чтобы обессилить и поработить их, чтобы навсегда был «слезами залит мир безбрежный», — в наши решающие годы Корчагин есть доказательство, что жизнь неугасима, что заря прогресса человечества еще только занялась на небосклоне истории. Мы еще не знаем всего, что скрыто в нашем человеческом существе, и Корчагин открыл нам тайну нашей силы. Мы помним, как это было. Когда у Корчагина — Островского умерло почти все его тело, он не сдал своей жизни, — он превратил ее в счастливый дух и в действие литературного гения и остался работником, не поддавшись отчаянию гибели. И с «малым телом» оказалось можно исполнить большую жизнь. Ведь если нельзя жить своим телом, если оно разбито, изувечено борьбой за освобождение рабочего класса, то надо и оказалось, что — можно превратиться даже в дух, но жизни никогда не сдавать, иначе она достанется врагу.
Литературный секретарь говорит Корчагину: «Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано же хорошо!» — «Нет, Галя, плохо», — отвечает Корчагин.
Написано хорошо, товарищ Островский. И мы вам навеки благодарны, что вы жили вместе с нами на свете, потому что, если бы вас не существовало, мы все, ваши читатели, были бы хуже, чем мы есть.
Общие размышления о сатире — по поводу, однако, частного случая
В сатирическом сочинении Евгения Федорова «Шадринский гусь — или повесть о шадринском писаришке Епишке» нет той единой яростной или, наоборот, пленительной идеи, которая необходима для сатирического и всякого другого художественного произведения. Сюжет сатиры, как сообщает автор, основан на «историческом анекдоте» — «как гусь шадринский, благодаря курьезному стечению обстоятельств, стал предметом экспорта в Англию». «Ряд положений сатиры условен, персонажи носят черты собирательные, наиболее типические». Хорошо, но мы это проверим.
Забавность, смехотворность, потеха сами по себе не могут являться смыслом сатирического произведения: нужна еще исторически истинная мысль и, скажем прямо, просвечивание идеала или намерения сатирика сквозь кажущуюся суету анекдотических пустяков.
Салтыков-Щедрин отлично понимал это обстоятельство. В «Осьмом письме» к тетеньке он писал: «Ах, ведь и мрачное хлевное хрюканье потеха; и трубное пустозвонство ошалевшего от торжества дармоеда — тоже потеха… Все это явления случайные, призрачные, преходящие, которые несомненно не оставят ни в истории, ни в жизни народа ни малейшего следа».
Сколь ни туманен был хаос общественной жизни во времена Салтыкова, но и он предвидел, что этот хаос должен в конце концов образовать звезду будущего, и Салтыков яростно работал, чтобы общественный человек либо «опомнился», то есть достиг бы чего-либо путного в своей исторической жизни, либо исчез вовсе из действительности, — но в межеумочном состоянии он быть не может и не должен быть.
Бывают и такие художественные произведения, которые критикуют общество не в ярости ума и не в осмеянии подлого человека, а в тишине и в слезах. Например, «Старосветские помещики» Н. Гоголя. В этом сочинении есть фигура приказчика старосветских помещиков (тот, который выводит столетние дубки почти на глазах у старосветских стариков); этот приказчик, по сравнению с помещиками, конечно, представляет некоторую «силу будущего», — он из породы родоначальников «господ ташкентцев» того же Щедрина, он хищник и предприниматель, один из основоположников русской буржуазии. В данном своем произведении Гоголь не устремлял своего взора поверх головы этого «приказчика» — в поисках исторического искупления или оправдания жизни своих стариков; автор только сравнил, между прочим, старосветских поэтических супругов с трезвым, энергичным вором (вскоре, после первичного накопления, он станет организатором собственной торговли и промышленности уже на «законных» основаниях). Выморочная работа истории, изображенная в «Старосветских помещиках» в эпизоде с приказчиком, осуждена и оплакана Гоголем в этой его повести. Гоголь ясно понимал, что старосветская, феодальная эпоха ушла, но на смену ей идет эпоха хищников — время порубщиков чужих лесов, время грабежа народа и истощения природы, господство «ташкентцев». И Гоголь видел, что эпоха «приказчиков» не лучше эпохи феодалов: нужно ли тогда, чтобы двигалось вперед историческое время? Этим вопросом, в сущности, и кончается повесть Гоголя. Но в таком вопросе содержится и ответ на него: необходимо, чтобы движение истории совершалось тем более энергично, раз сменяющие один другого общественные классы не дают истинного смысла человеческой жизни.
Мы хотим сказать, что если вообще для художественной прозы необходима, по давнему указанию Пушкина, прежде всего мысль, то для сатирической прозы мысль нужна вдвойне, без всяких живописных пустот в тексте. Сатира — это исключительное искусство идеи и мысли, причем сама художественная, изобразительная способность сатирика служит лишь подсобным средством для его работы, и этой способностью он должен обладать в превосходной степени. То, что достаточно для художника-несатирика, для сатирика является только вспомогательным, хотя и необходимым оружием. Вот приблизительно какова требуется подготовка для писателя-сатирика; одной прелести слова, либо остроумного анекдота, либо умелого сюжета, либо мастерства в создании типов и характеров — для сатиры еще мало, это лишь детали для нее; главное в сатирическом произведении — это глубокая, могучая мысль, проникающая общественное явление до дна, до истины, и подчиняющая себе все остальное — и прелесть слова, и движение сюжета, и характеры героев. Но поставить на службу сатирической идее всю художественную аргументацию произведения не означает сломать, обеднить или пристругать к общественной идее художественное искусство; нет, это означает необходимость владеть искусством как собственной плотью, чтобы оно не слишком отягощало руку писателя и не уводило его в сторону, в «красоту», в самое себя, ибо искусство в самом себе равносильно его уничтожению.
В «Шадринском гусе» мы имеем нечто противоположное сатире; точнее говоря, по форме это сочинение напоминает сатиру, а по духу это «потеха» и суета пустяков, имеющих лишь формальное значение «остроумия». Дело в следующем: «Половина града Шадринска выгорела дотла и с пожитками… Того ради Правительствующему Сенату представляю: не повелено ли будет жителям пожитки свои выбрать, а оставшуюся половину града зажечь, дабы не загорелся град не вовремя и пожитки бы все не пожрал пламень…» Так сообщил шадринский воевода Андрюшка Голиков сенату. Царица Екатерина, прочтя сей доклад, начертала на нем: «Любопытно видеть сего шадринского гуся. Каков!» Резолюцию Екатерины обсуждает сенат (о том, что у сенаторов «бездумные головушки», написано давно и со смертельной силой классиками русской сатиры; Е. Федоров написал об этом слишком поздно и, главное, хуже классиков); затем резолюция возвращается к воеводе Андрюшке, который, используя разум своего писца Епишки, организует транспорт гусей в столицу, во главе с тем же Епишкой. После многих препятствий, преодоленных хитроумием и терпением тела Епишки, гуси доставляются в столицу, а сам Епишка нахально, самовольно видит царицу. Последняя гонит его прочь. Епишка получает розги, но Екатерина, благодаря Епишке, вспоминает смешной рапорт шадринского воеводы. При случае Екатерина— в ответ на похвалу английского посла относительно обеденного гуся — похвасталась: «Такой птицы у нас на Урале — премножество»… В результате англичане заинтересовались «дивной птицей». Екатерина это учла и вспомнила про «шадринского мужчину» Епишку. Епишка получил офицерский чин, вернулся ко двору, стал купцом и быстро пошел в гору, то есть обирал крестьян прямым жульничеством и богател на скупке-продаже гусей. Впоследствии Епишка попал в руки пугачевцам и был ими казнен, как мироед, посредством все тех же гусей: пугачевцы закормили Епишку гусями насмерть.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: