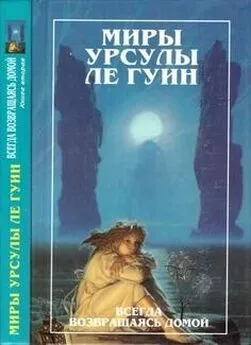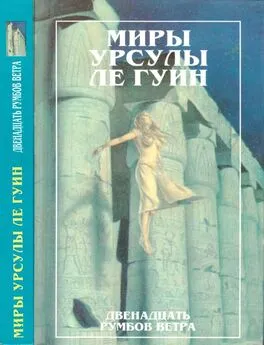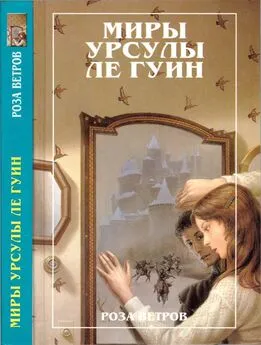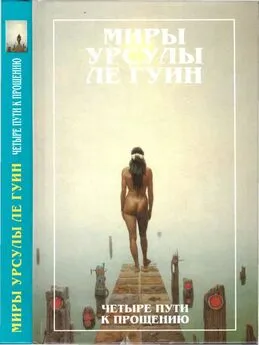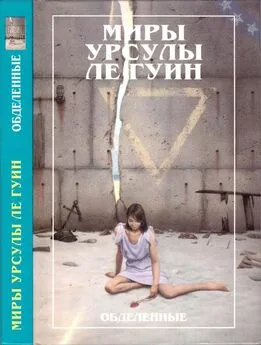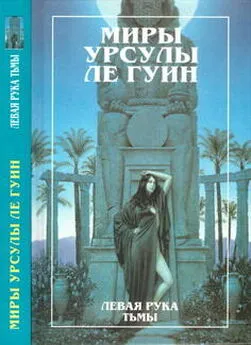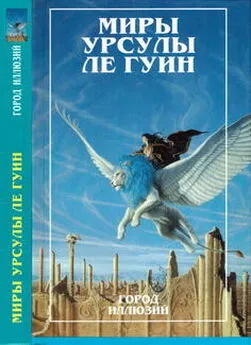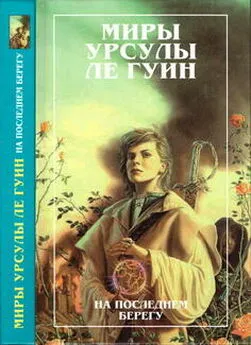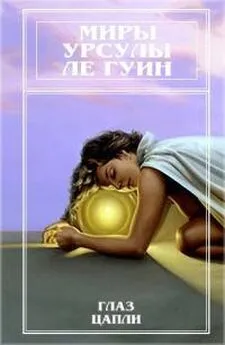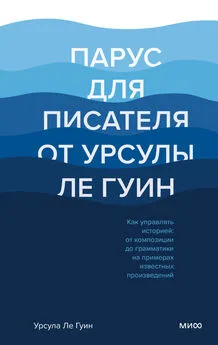Урсула Ле Гуин - Ребенок и Тень
- Название:Ребенок и Тень
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Урсула Ле Гуин - Ребенок и Тень краткое содержание
Перевод эссе и предисловия выполнен с разрешения Урсулы Крёбер Ле Гуин. Перевод с английского Марины Золотаревской.
Впервые опубликовано на сайте «ИнтерЛит. Международный литературный клуб» (http://www.interlit2001.com).
Ребенок и Тень - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
С возвращением тени к человеку в его зрелом возрасте он получает второй шанс, но упускает и его. Он стоит, наконец, лицом к лицу со своим тёмным «я», но вместо того, чтобы добиться равенства или главенства, позволяет ему стать хозяином. Он сдаётся. По сути, он и впрямь становится тенью тени, и роковой конец его теперь неизбежен. Принцесса Разум жестока, посылая его на казнь, и всё же она справедлива.
Безжалостность Андерсена — это отчасти безжалостность разума, психологического реализма, радикальной честности, готовности увидеть и принять последствия поступка или неспособности на поступок. Есть в Андерсене и что-то издевательское, угнетающее; это его собственная тень, она существует, она часть его, но не целое, и она им не правит. Его сила, его искусность, его созидательный гений берут начало именно в том, что он признаёт и делает союзником тёмную сторону собственной души. Вот почему выдумщик Андерсен — один из величайших реалистов в литературе.
Сейчас я стою здесь, как сама принцесса, и рассказываю вам, что история о тени означает для меня в сорок пять лет. Но что она означала для меня, когда я впервые прочла её, лет в десять-двенадцать? Что означает она для детей? «Понимают» ли они её? «Полезна» ли для них она — это мучительное, сложное исследование моральной несостоятельности?
Не знаю. Ребёнком я её ненавидела. Я ненавидела все андерсеновские истории с несчастливой концовкой. Это не мешало мне их читать и перечитывать. Или хранить в памяти… так что после перерыва в тридцать с лишним лет, когда я обдумывала эту беседу, голосок в моём левом ухе вдруг проговорил: «Ты бы раскопала ту андерсеновскую историю, ну знаешь, о тени».
В десять лет я уж точно не стала бы распространяться о разуме, и о подавлении, и обо всём подобном. Я не владела техникой критики, не обладала беспристрастностью, и была даже менее способна на упорные размышления, чем сейчас. В каком-то смысле моё сознание было слабее развито. Но я обладала не менее — если не более — развитым подсознанием, и возможно, была крепче связана с ним. И это именно к нему, к неизвестной глубинной части моего существа, взывала та история; именно эта глубинная часть отвечала ей; и, без посредства слов, без помощи логики, понимала её, и училась у неё.
Великие произведения в жанре фэнтэзи, мифы и сказки и впрямь сродни сновидениям: через них подсознание обращается к подсознанию, на языке подсознания — символа и архетипа. Хотя они и пользуются словами, но действуют подобно музыке: минуя многословные рассуждения, находят прямой путь к мысли настолько глубинной, что речь не может её передать. Их невозможно перевести полностью на язык разума, но только Логический Позитивист, который и в Девятой Симфонии Бетховена не видит смысла, объявил бы их поэтому бессмысленными. Есть в них глубокий смысл, и есть польза, практическая ценность, когда дело касается этики, способности к пониманию, развития.
Сведённая к пересказу на языке дня, андерсеновская история говорит, что человек, неспособный стать лицом к лицу со своей тенью и признать её, — это конченый человек. Говорит она нечто и о себе самой, то есть об искусстве. О том, что если ты хочешь попасть в Обитель Поэзии, то должен войти туда во плоти, в грузной, грубой, неуклюжей телесной оболочке с её мозолями и простудами, вожделениями и страстями; в телесной оболочке, отбрасывающей тень. О том, что если художник пытается игнорировать зло, ему никогда не войти в Обитель Света.
Вот что великий мастер сказал мне о тенях. А теперь, если мне будет позволено передвинуть нашу свечу и отбросить тень в ином направлении, я хотела бы расспросить о том же великого психолога. Искусство сказало своё слово; послушаем, что скажет наука. Поскольку предмет разговора — именно искусство, то пусть это будет психолог, чьи идеи в области искусства наиболее важны для большинства мастеров: Карл Густав Юнг.
Терминология Юнга славится своей сложностью, поскольку он постоянно меняет значения слов, как растущее дерево меняет листья. Попытаюсь по-любительски дать определение нескольким ключевым терминам, не исказив их окончательно. Итак, выражаясь весьма приблизительно, для Юнга «эго», — то, что мы обычно именуем «я», — есть лишь часть «Я», та часть, которую мы воспринимаем сознательно. Эго «вращается вокруг Я, как Земля вокруг Солнца», говорит он. Это «Я» запредельно; оно намного превосходит эго и находится не в личном владении, а во всеобщем, — иными словами, мы делим его с другими людьми, а возможно, и со всеми живыми существами. Быть может, именно оно и связует нас с тем, что именуется Бог. Такая картина представляется — и является — мистической; но вместе с тем она точна и реалистична. Юнг просто утверждает, что в основе своей мы похожи; нашим душам свойственны общие устремления и общее устроение, как нашим телам — одинаковый тип лёгких и костяка. Все человеческие существа на вид немного сходны; они также мыслят и чувствуют сходно. И все они — часть вселенной.
Эго, малое, личное, индивидуальное сознание, понимает это; и понимает также, что либо будет заперто в безнадёжном безмолвии аутизма, либо должно признать себя родственным чему-то вне его самого, выше его самого, значительней его самого. Если эго окажется слабым, или ничего лучшего ему не достанется, то родства оно будет искать с «коллективным сознательным». Этим термином Юнг обозначает нечто вроде наименьшего общего знаменателя при сложении всех малых эго; сознание толпы, состоящее из таких явлений, как культы, лозунги, минутные увлечения, моды, погоня за престижем, условности, внушённые убеждения, реклама, поп-культура, все «измы», все идеологии, все пустые формы общения и «единения», лишённые и настоящей общности, и настоящей возможности чем-либо делиться. Эго, приемлющее такие пустые формы, становится частью «одинокой толпы». Чтобы избежать этого, чтобы познать истинную общность, оно должно повернуть внутрь, прочь от толпы, к истоку: оно должно признать себя родственным собственному глубинному миру, огромным неисследованным областям «Я». Эти области духа Юнг называет «коллективным бессознательным»; именно в них, там, где мы все встречаемся, видит он истоки подлинной общности, непритворной веры, искусства, великодушия, непосредственности и любви.
Как попасть туда? Как отыскать свой собственный, личный вход в коллективное бессознательное? Что ж, первый шаг — часто самый важный; а Юнг говорит, что сделать первый шаг значит повернуться и последовать за собственной тенью.
Душа видится Юнгу населённой множеством занимательнейших фигур; они куда живее мрачного фрейдовского трио — Оно, Эго, Сверхэго; с ними всеми стоит познакомиться. Та, что интересует нас сейчас, — тень.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: