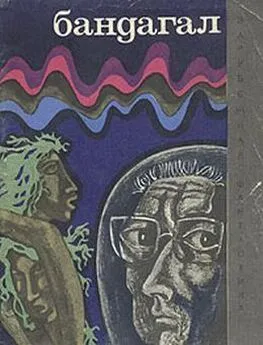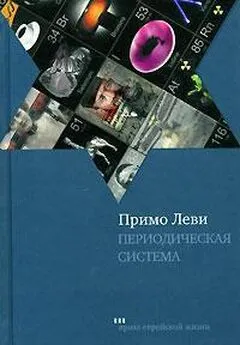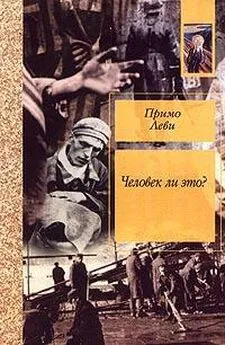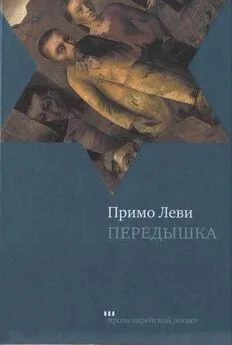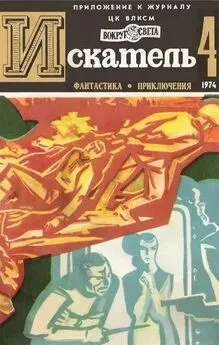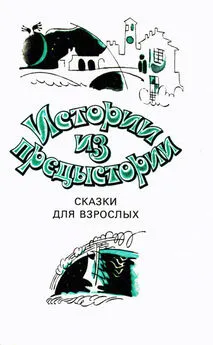Примо Леви - Канувшие и спасенные
- Название:Канувшие и спасенные
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-128-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Примо Леви - Канувшие и спасенные краткое содержание
Примо Леви родился в 1919 году в Турине. Окончил химический факультет Туринского университета. В 1943–1945 годах — узник Освенцима. После освобождения работал химиком, занимался литературой и переводами. Автор двух автобиографических книг о лагерном опыте — «Человек ли это?» (1947), «Передышка» (1963), нескольких романов и повестей. Покончил с собой в 1987 году.
Канувшие и спасенные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если кто-то вдруг замешкался (такое случалось часто, потому что люди не понимали и были запуганы), на него сыпались удары и становилось понятно, что это вариант все того же языка: использование слов для выражения мысли, механизм, без которого нельзя обойтись, пока человек остается человеком, вышел из употребления, а это значит, что с нами, другими, уже переставшими быть людьми, следует, как с коровами или мулами, общаться на другом языке, в котором нет существенной разницы между окриком и тумаком. Для того чтобы лошадь бежала или останавливалась, поворачивала в нужную сторону или тащила телегу, нет необходимости давать ей подробные объяснения, достаточно дюжины однозначных приказов — голосовых, осязательных или зрительных. Натянуть поводья, пришпорить, прикрикнуть, взмахнуть рукой, щелкнуть кнутом, причмокнуть губами, шлепнуть по крупу-вот словарь, которым пользуются при общении с лошадью. Разговаривать с ней так же глупо, как с самим собой, или просто смешно: что она поймет? В своей книге «Маутхаузен» Марсалек рассказывает, что в этом лагере, еще более многоязычном, чем Освенцим, резиновая дубинка называлась der Dolmetscher, «переводчик», потому что ее понимали все.
Человек некультурный (а гитлеровцы, и особенно эсэсовцы, были чудовищно некультурны, потому что никто их «не окультуривал», а если им что и прививали, то только плохое) не способен определить разницу между тем, кто не понимает его языка, и тем, кто вообще ничего не понимает. Молодым нацистам вбивали в голову, что на свете существует всего одна цивилизация, немецкая, с остальными же, прошлыми и настоящими, можно смириться лишь в случае, если они несут в себе германские элементы. Вот почему, кто не понимал и не говорил по-немецки, считался варваром по определению, и, если он упорно продолжал объясняться на своем языке, точнее, не-языке, нужно было побоями заставить его замолчать, криком и понуканием напомнить ему, где его место, — ибо он не Mensch [35] Человек (нем.).
, не человеческое существо. Мне вспоминается один характерный эпизод. На стройке молодой капо, только что назначенный в состоящую главным образом из итальянцев, французов и греков команду, не заметил, как сзади к нему подошел один из самых свирепых эсэсовских надсмотрщиков. Обернувшись, он растерялся, потом встал по стойке смирно и доложил: «Восемьдесят третья команда, сорок два человека». От волнения он именно так и сказал: «zweiundvierzig Mann» («сорок два человека»). Эсэсовец поправил его с отеческой строгостью: так не говорят, нужно сказать «zweiundvierzig Haftlinge» («сорок два заключенных»). Он простил оплошность неопытному капо, но впредь тому следовало четче выполнять свою работу и не забывать, кто есть кто.
Положение «когда-с-тобой-не-разговаривают» быстро вело к гибели. Тому, кто с тобой не разговаривал, а орал что-то нечленораздельное, ты не осмеливался ответить. Хорошо, если на твое счастье рядом оказывался соплеменник и ты мог обменяться с ним своими впечатлениями, посоветоваться, излить душу, но если вокруг не было никого, кто понял бы тебя, твой язык за несколько дней присыхал к гортани, а скоро пересыхали и мысли.
Таким образом, если с самого начала тебе непонятны приказы и запреты, предписания и распоряжения, среди которых могут быть бессмысленные, ненужные, но могут быть и важные, ты чувствуешь себя в пустоте и с отчаянием осознаешь, что без информации, которую можно получить только путем общения, тебе не выжить. Большая часть узников, не знавших немецкого, в частности, почти все итальянцы, умерли в первые же десять-пятнадцать дней после прибытия в лагерь. Причиной смерти можно считать голод, холод, переутомление, болезни, но если смотреть глубже, все они умерли от недостатка информации. Если бы они имели возможность поговорить со старожилами, те научили бы их находить себе одежду и обувь, добывать дополнительное пропитание, уклоняться от очень тяжелой работы, избегать подчас опасных для жизни встреч с эсэсовцами, не делать непоправимых ошибок, стараться справиться с неизбежными болезнями. Я не утверждаю, что они не умерли бы вообще, но они прожили бы дольше и имели бы больше шансов вернуться на родину.
В памяти каждого выжившего (из тех, кто не знал или плохо знал другие языки) первые лагерные дни запечатлелись в виде смазанных, быстро мелькающих кадров, на которых бессмысленную суматоху сопровождают невнятные крики, и толпы растерянных существ без имен и лиц тонут в этом оглушительном шуме, откуда человеческие голоса не всплывают. Это черно-белые кадры звукового, но бессловесного фильма.
Я обратил внимание на одно любопытное явление, имеющее отношение к этой пустоте и к потребности в коммуникации: даже через сорок лет я и другие выжившие все еще помним на слух слова и фразы, звучавшие тогда вокруг нас на языках, которых мы не понимали и не научились понимать; для меня такими языками были польский и венгерский. До сих пор помню, как в одном бараке звучал по-польски номер — нет, не мой, а того заключенного, что значился в списке передо мной: длинная путаница звуков с мелодичным разрешением в конце, как произносимые скороговоркой детские считалки, что-то вроде «чтерджещи чтери» (сегодня я знаю, что эти слова означают «сорок четыре»). В том бараке и разливальщик супа, и большинство заключенных были поляки, поэтому польский служил там официальным языком. Когда выкрикивали наши номера, следовало стоять наготове с протянутой миской, поэтому, чтобы не прозевать свою очередь, надо было не пропустить, когда назовут номер того, кто стоит непосредственно перед тобой. Это «чтерджещи чтери», как колокольчик у собак Павлова, вызывало у меня условный рефлекс — немедленное слюноотделение.
Чужие слова записались в нашей памяти как на чистой, пустой магнитофонной ленте; так голодный желудок быстро усваивает даже неудобоваримую пищу. Мы запоминали эти слова не благодаря их смыслу (для нас они не имели смысла), тем не менее, когда спустя много лет мы повторяли их тем, кто мог их понять, оказывалось, что они обозначают самые простые, обычные вещи: угрозы, проклятья, расхожие фразы типа «который час», «я не могу идти», «оставь меня в покое». Это были разрозненные осколки среди непонятного, плод бесполезного и бессознательного усилия выделить смысл из бессмысленного, заглушить голод ума по примеру физиологического голода, заставлявшего нас ради насыщения шарить вокруг кухни в поисках картофельных очистков, которые все же лучше, чем ничего. Изголодавшийся мозг тоже мучается, только на свой лад. Возможно, впрочем, это бесполезное парадоксальное запоминание имело иное значение и иную цель, было бессознательной подготовкой к потом, к не изведанному никем и никогда выживанию, когда каждый отдельный опыт мог стать недостающим фрагментом большого мозаичного панно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: