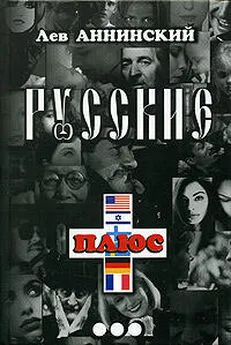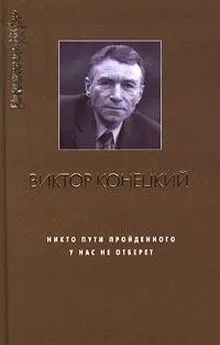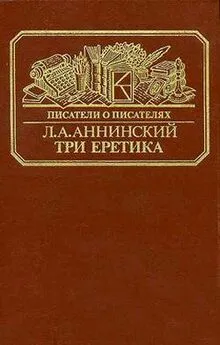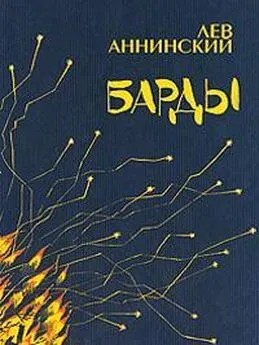Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
- Название:Ядро ореха. Распад ядра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра краткое содержание
В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.
Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу. К началу 70-х годов стало ясно, что «поколение» распалось, и стимул исчез.
Тогда я стал писать статьи совершенно другого тона, пытаясь понять, что с нами будет. Они вошли в третий раздел: «Расщепление».
«Разлет» — это уже когда стало ясно, что с нами происходит.
«Полюса» — наиболее ярко и последовательно воплотившиеся писательские судьбы в эпоху подступающего распада Целого.
«Траектории» — это статьи, где прослеживаются расходящиеся пути некогда единого писательского поколения.
И, наконец, «Следы» — скорее в том смысле, в каком это слово понимают физики-экспериментаторы — «теноры ХХ века», герои моей молодости, чем в смысле охотничьем, — статьи, написанные по долгим следам героев «Ядра ореха»; создавались они в то время, когда в глазах поколений, пришедших следом, «шестидесятники» стали уже почти посмешищем.
Ядро ореха. Распад ядра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Россия никогда не была так напитана стихами, как теперь. Но… как бы это сказать… она читает не совсем то и не совсем так, как это было на эстрадных вечерах поэзии три-четыре года назад. Да, мне ясно, что имел ввиду автор той записки. Упал интерес к модным поэтам…
— К стихам Евтушенко, Вознесенского…
— О, знакомый список.
— Я как раз хотел назвать Фирсова.
— Фирсова? Странно.
— Что странно?
— Да непривычное сочетание какое-то. Люди, находящие что-то в Рождественском, редко принимают Фирсова. И наоборот. Говоря тем самым языком: это поэты, модные в резных кругах.
— Э чепуха все это. Такая чепуха, прости господи! Или ты думаешь, что Рождественский открывает мне сегодня больше? Из всех их мне, может быть, если о последней правде говорить, ближе всех сегодня ни тот, ни другой, ни третий, ни четвертый, а тот пятый, чьи стихи в эпиграфе. Все эти модные списки — глупость. Если поэт так или иначе выразил драму своего бытия, то в каком бы списке он ни числился…
— Ты хочешь сказать, что в судьбе Фирсове, Рождественского, Вознесенского и Евтушенко есть что-то общее?
— Еще какое общее! Да прежде всего то, что они выявили (с разных сторон, естественно) — драму одного поколения.
— Становление молодого характера, выход в жизнь нового человека, самоопределение юноши — та самая логика духовного развития, которая несколько лет назад властно притянула внимание общества к обновлявшейся поэзии. То был прекрасный момент равновесия, когда полно зазвучали новые голоса, и столь же полным был отклик. Одни вслушивались в резкий бас Рождественского, другие — в нежный тенор Евтушенко; одним были по душе акварели Фирсова, другим — фламандские полотна Вознесенского — всякий говорил своим голосом, и притом у каждого звучало ощущение правоты, и было ощущение полной выраженности своего "я", ощущение «само-забвенности».
— И лишь мгновенной могла быть эта гармония, лишь моментальным — это равновесие…
— Почему?
— Потому что поиск себя и собственное мироощущение личности, создавшие этот поэтический подъем, были и внутренним пределом поэтов, вошедших тогда в моду, Они еще не ощущали в себе этого внутреннего предела. Но они должны были его ощутить, В духовном развитии есть своя непреложная логика. Личность в своем развитии не может миновать этапа самоопределения, самосозидания, самосопоставления со всем, что ее окружает. Но в этом собирании себя уже заключен новый вопрос: зачем? Вопрос о цели нельзя поставить перед существом, не осознавшим в себе суверенной духовной личности: существо должно отпасть, ощутить себя, объявить войну врагам. Но в личности, заявившей о себе, мгновенно и естественно возникает новая жажда: объяснить и понять мир, найти новую формулу единства с ним, — личность выделяет себя из времени, чтобы объяснить время. В тот самый момент, когда заявившие о себе поэты снискали всеобщую популярность, и эта популярность отлилась в реальные книжки стихов и в реальность бесчисленных диспутов, — сработала диалектика духовного развития, и интерес тут же неслышно отхлынул от поэтов, — хотя книги остались, и даже остались диспуты: просто дольше надобны были иные горизонты, а авторы умели только объяснить себя.
— Но они попытались объяснить мир! Словно по команде, все ушли в писание поэм. Евгений Евтушенко вновь постарался быть первым: в сентябре 1963 года уже напечатал "Опять на станции Зима" — нечто среднее между стихотворением и поэмой, продолжение тех приключений любопытного странника, которые начались "Станцией Зима" и продолжились затем в поэме "Откуда вы?" Кажется, на этот раз очередной эпизод зимской эпопеи не удовлетворил никого. Евтушенко это понял и, расширив фронт работ, стал писать гигантскую поэму о времени.
— Теперь заглянем в другой список…
— В это же время с поэмой "Память" выступает Вл. Фирсов, "Память" — как разбег: за ней последовала обширная "Россия от росинки до звезды», а вдогонку — «Глазами столетий, патриотический монолог», словно Постскриптум к поэме. Надо отдать должное поэтам: они искренне взывали к читателям, ища нового контакта. "Эй, родившиеся в трехтысячном, удивительные умы!»
— Это уже не Фирсов. Это Рождественский. Начало поэмы "Письмо в XXX век".
— Вознесенский открывает поэму "Лонжюмо" с признания, что ею знаменуется совершенно новый этап в его творчестве: "Вступаю в поэму, как в новую пору вступают…" Вслед за "Лонжюмо" последовала "Оза"…
— И тут, наконец, появилась давно обещанная, гигантская, "всемирно-историческая" поэма Евтушенко "Братская ГЭС".
— И что же? Мир не рухнул и не прозрел при появлении такой череды программно-эпических произведений, хотя, видит бог, шесть лет назад, в самый разгар интереса к нашим поэтам, такого обилия поэм у нас не было. Времена меняются» Опубликовали, прочитали. Даже критическое фехтование вокруг "Оэы" не вызвало волнения. Поэма как поэма, все в порядке. Законы зрелости — не то, что законы юности. Творческая юность наших авторов проходила в густой атмосфере интереса к ним: их ругали, ими восхищались, их буквально носили на руках. Их вступление в зрелость проходит куда спокойнее.
— Ну и отлично, спокойствие — лучшее условие при определении того, что чего стоит. Речь идет о попытке выработать концепцию мира, родины, вселенной. От этой задачи никуда не уйти — это задача неизбежная в нашем духовном развитии. Тут и неуспехи так же ценны, как успехи.
— Вот-вот. Поэзия — не производство качественного строкажа для чтения; поэзия — наш внутренний опыт; тут не о качестве рифм — о судьбе речь.
— И именно в этой плоскости Фирсов и Рождественский дополняют друг друга?
— Конечно.
— Ну, так начнем с Фирсова?
— Начнем.
До 1963 года я относился к поэзии Владимире Фирсова с тем спокойным интересом, какой естественно проявляешь ко всякому творчеству, пусть не близкому тебе, но свидетельствующем о реальном состоянии другого. Читал его регулярно, но без особого рвения.
В 1968 году я буквально впился глазами в следующие строки Фирсова:
Мы — «правые», и виноваты в том,
Что мы в землянках выжили с трудом,
Что детства не видели в дни войны —
Солдатские, сиротские сыны, —
Что молча шли за плугом и косой,
Не зная ни Дега, ни Пикассо…
Мы виноваты…
А по чьей вине
На каждого Ивана — по войне,
На каждую могилу — по кресту
иль по звезде, чтоб видеть за версту?!
Это было что-то нежданное. Ярость, с которой Фирсов обрушился на своих противников. Злость, с которой он кидал им:
"— Проходимцы! Спекулянты слова! Подлецы! — Неистовство, с которым проклинал он песни о последнем троллейбусе, подбиравшем мальчиков с улицы Горького, магнитофонные ленты, на которых записаны эти песни, и «тщедушных детей» города, имеющих эти магнитофоны. У меня были основания не согласиться с В.Фирсовым — уже хотя бы потому, что вырос я в Москве, люблю улицу Горького с ее троллейбусами, люблю Дега и Пикассо и всякую новую технику люблю. Каюсь: и изруганные Фирсовым "Треугольные» стихи, где зацветают антирадуги и некто с антиголовой бредет в ухмылкой по параболе там, где бы надо по прямой", — это стихи одного из самых интересных мне поэтов. Но странное дело: умом понимая, что и против меня, горожанина, направлены новые строчки В.Фирсова, я всем существом своим ощутил в них ту всепоглощающую страсть, ту жгучую силу, по которой мгновенно угадываешь: вот когда по-настоящему-то поэт родился! И откуда взялась эта ярость, будто собравшая в единый мускул нежную ткань прежних фирсовских стихов? И та глубоко личная, выстраданная боль, давшая, наконец, выход сообщившая смысл медленно копившимся впечатлениям его прежнего бытия!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: