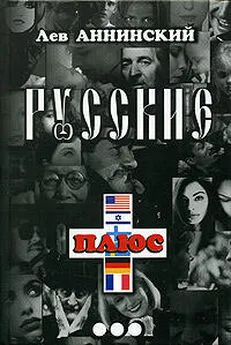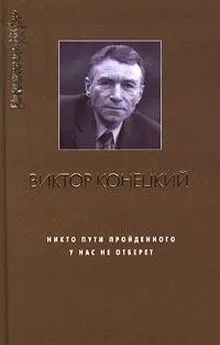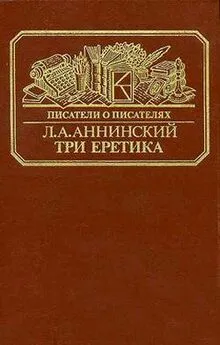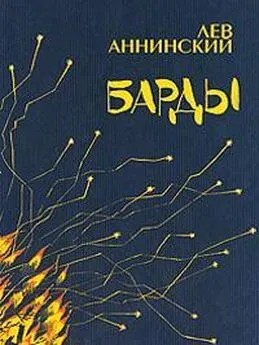Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра
- Название:Ядро ореха. Распад ядра
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Аннинский - Ядро ореха. Распад ядра краткое содержание
В этом томе собраны статьи о первом послевоенном поколении. Оно ощутило себя как нечто целостное на рубеже 60-х годов и вследствие этого получило довольно нелепое имя: «шестидесятники». Я искал других определений: «послевоенные мечтатели», «последние идеалисты», «дети тишины», «книжники» т. д., - но ничего удовлетворительного не нашел и решил пользоваться прилипшим к поколению ярлыком «шестидесятников». Статьи писались в 1959–1963 годах и составили книгу «Ядро ореха», которая, после некоторых издательских мучений, вышла в 1965 году; в настоящем томе она составляет первый раздел.
Второй раздел — «Раскрутка» — статьи, не вошедшие в «Ядро ореха» или написанные вдогон книге в 1964–1969 годах; тогда мне казалось, что «молодая литература» еще жива: я надеялся собрать эти статьи в новую книгу. К началу 70-х годов стало ясно, что «поколение» распалось, и стимул исчез.
Тогда я стал писать статьи совершенно другого тона, пытаясь понять, что с нами будет. Они вошли в третий раздел: «Расщепление».
«Разлет» — это уже когда стало ясно, что с нами происходит.
«Полюса» — наиболее ярко и последовательно воплотившиеся писательские судьбы в эпоху подступающего распада Целого.
«Траектории» — это статьи, где прослеживаются расходящиеся пути некогда единого писательского поколения.
И, наконец, «Следы» — скорее в том смысле, в каком это слово понимают физики-экспериментаторы — «теноры ХХ века», герои моей молодости, чем в смысле охотничьем, — статьи, написанные по долгим следам героев «Ядра ореха»; создавались они в то время, когда в глазах поколений, пришедших следом, «шестидесятники» стали уже почти посмешищем.
Ядро ореха. Распад ядра - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что же это?
Чувство духовного смысла, простой правоты и тихой бескомпромиссности твоих внутренних решений. Чувство личности.
Драматизм поэзии Вл. Соколове — в столкновении внутреннего благородства — с хаосом низменных побуждений, с бессмысленностью жалких, безликих потуг, с ограниченностью лжи и низкой злобы. Соколов все время испытывает личность — безликой злобой. Отсюда — тема гения, который гибнет под ногами ничтожества. Отсюда — неповторимое, чисто соколовское решение темы: гений гибнет не от удара Мартынова, но от того, что не может изменить себе, не может защититься, как Мартынов. Иуда должен предать Хряста, Христос должен принять свой жребий. Соколов и эту вечную тему решет все с тою же горестной усмешкой: "Пойти в Горсправку? Объявленье дать? Мне тридцать лет. Я жив. Ищу Иуду»…
Благородство должно быть готово к испытанию подлостью. Моцарт знает, что Сальери сыплет ему яд и не препятствует ему, потому что должен испить до конца чашу гения, а не спастись как-нибудь… ценой гения.
И Лермонтов… Любимый поэт Соколова, Лермонтов, который знает все: и что пуля из свинца и, что Мартынов способен убить, и что он шутить не будет
Когда стреляют в воздух на дуэли,
отнюдь в обидах небо не винят…
Лермонтов становится под выстрел. — "А что он мог?»- "Уж он сумел бы вбить ему в межглазье»… — Ах, вбить в межглазье? Победить это ничтожество, встав с ним на один уровень? Стать Грушницким…
Он видел всю бесцельность этой цели…
Главная цель — недостижима?
А может, она и должна быть — недостижима?
1965
СКАЗКА О ЖИЗНИ И ИГРА В ЖИЗНЬ
Реальность сказки и призрачность были
Ни хор восторгав, ни даже град критических ударов не приносит, говорят, поэту той потаенной радости признания, какую дает ему первая на него пародия. Беллу Ахмадулину можно поздравить: пародисты чуют, что у нее — сложившийся стиль. Берут что-нибудь простецкое — грипп в октябре, круг на воде, зайца на сковороде, какую-нибудь чепуховину, сосульку, умывальник — и одевают в лунное свечение тяжелый сей и осязаемый предмет, в туманный ореол определений, чтоб тайный смысл возник. Спереди — молитвенное «о»! О стеклодув, что смысл дутья так выразил в сосульках этих!.. О умывальник, как милы твои чудовища — вода и полотенце… У зайца на сковороде обнаруживается нечто вроде «внезапной лаконичности хвоста». Пародистам легко, когда перед ними — стиль.
Да, они выдают поэту свидетельство о стиле — эти безжалостные герольды. Но их приход кажется мне не очень-то добрым знаком. Блеск отделки, который манит и слепит пародистов, — предательский блеск. И слава, которую приносят они, по-моему, тревожная слава. Ахмадулину узнают теперь по двум строчкам. Мастерство ограждает ее от стихав, откровенно неряшливых или дурно звучащих. Умелость — крепкая защита… может, быть, слишком крепкая. Увы, золото профессиональной отделки способно сверкающим панцирем прикрыть все: и большую правду, и большую иллюзию.
Я хочу этим сказать, что обе поэмы, опубликованные Б. Ахмадулиной почти одновременно, «Сказка о дожде» и «Моя родословная» — написаны уверенной рукой мастера. Значит, та человеческая правда, которая делает «Сказку» одним из значительных (с моей точки зрения) произведений поэзии, — правда эта не измерима категориями профессиональной отделки. Значит, та неправда, которая лежит в основе «Родословной», не поддается текстуальной демонстрации. Я и не собираюсь демонстрировать читателю профессиональные удачи или промахи поэтессы. Важнее другое: почувствовать ту реальную духовную драму, которая стоит и за ее победой, и за поражением.
Какая уж там реальность! — ответите вы. — Сказочка… «Дождь, как крыло, прирос к моей спине…» Фантастическая ситуация объявлена с первых строк, с самого заглавия… «Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел…» Вы улыбаетесь лукавому разговору, который ведет героиня с этим озорником («Иди к цветам! Что ты нашел во мне?»), — и вдруг улыбка ваша застывает: интерьер у сказки — слишком несказочный, он слишком реален, этот интерьер чуда, он так же чудовищно реален, как комната Грегора Замзы, другим сказочником превращенного в насекомое. Милое, как сон, поэтичное создание, озорник Дождь. оказывается вместе с автором в кругу людей, неумолимых в своей прозаической трезвости. Так подробно описан их прочный мир: янтарно блещущий паркет и отражение модной люстры в нем, ковры, шелка, хрусталь и полированная скругленная мебель — так беспощадно точно увиден этот мертвенный круг вещей, что критик Лариса Крячко могла бы смело включить Ахмадулину в новую статью о «модерн-мещанстве» и его обличителях. Но даже и не к этим точно написанным человекоподобным прикован ваш взгляд — вы ждете тревожно: что же станет с Поэзией, попавшей в этот мир, что со Сказкой станет? «Ритуал приветствий, как опера, станцован был и спет», — словно очнувшись, замечает Поэзия. Пока обладатели полированной мебели расшаркиваются в дверях с промокшей от Дождя гостьей, вы успеваете почувствовать страшный смысл этого механического обмена любезностями и страшный облик этого полированного уюта. Господи, в том ли дело, современная мебель, или купецкий самовар тут стоит, модерн-мещанство или классическая окуровщина вьет гнездо? Бездуховность — вот что смертельно. «К огню ее, к огню!» — шумно заботятся о вымокшей гостье обитатели модной квартиры, а в ее сознании стучит мысль: «Когда-нибудь, во времени другом, на площади, средь музыки и брани, мы б свидеться могли при барабане, вскричали б вы: «В огонь ее, в огонь!». И пока здесь, в реальном интерьере, идет эта вежливая, издевательская казнь Поэзии — Дождь, сказка милая, оставшись за порогом, синея, плачет… Лишь две слезы, как след его, в глазах гостьи, ведущей вежливый разговор с хозяевами…
Что противопоставить этому полированному раю? Другой быт? Половички в избе? Аэропорта алюминий? Вещи — вещам? Да, в сфере прозаического быта весь этот модерн докажет свое превосходство над старой обывательщиной канареечного разряда. Но что с того! Ахмадулина видит подлинную пропасть, разделяющую ее с противниками. Словно почувствовав, настолько глубоко оскорблен и задет их покойный мир, обитатели полированного рая задают вопрос, бьющий в самую точку, о, как учуяли они опасность, грозящую им: «Одаренных богом кто одаряет? И каким путем?»
Округлый, музыкальный ритм ахмадулинского стиха нигде не становится намеренно острым. Талантливость казнит своих противников, как бы не замечая их. Самое существование талантливости, чуда, поэзии — смертный приговор глухой бездарности вещного, бездуховного существования. «Одаренных богом кто одаряет?» Извольте… «Приходит бог, преласков и превесел, немного старомоден, как профессор, и милостью ваш осеняет лоб…» Две реальности столкнулись здесь: и пока озлобленный здравый смысл медленно соображает, где его одурачили, — поэзия, забыв о нем. летит вперед, вверх, вниз, «в кровь раздирая локти и коленки, о снег, о воздух, об углы Кваренги, о простыни гостиниц и больниц…». В этом самозабвенном и доверчивом полете фантазии передает Ахмадулина реальность, неизмеримо ценнейшую, чем призрачная устойчивость ультрасовременного быта, ощущение духовной полноты, свободы и счастья, и гордости талантливого, непобедимо талантливого существа. Реальной схваткой оборачивается для вас та фантастическая, невероятная сцена, когда под белоснежным потолком раздался крик: «Мой мальчик, Дождь! Скорей иди сюда!».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: