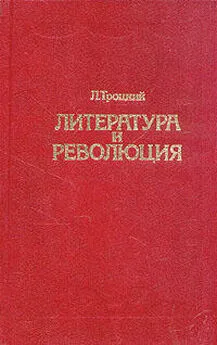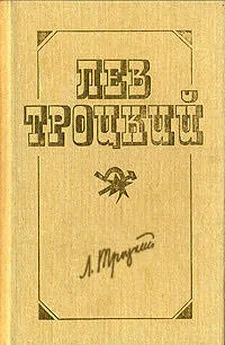Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
- Название:Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-250-01431-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Троцкий - Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г. краткое содержание
Книга Льва Троцкого «Литература и революция» раскрывает его общеэстетические идеи. взгляды на проблемы литературного и художественного процессов. На ее страницах читатель найдет имена, возвращенные в наш духовный обиход, без которых нет истории отечественной культуры начала XX века. Это Розанов, Замятин, Мережковский, Кузмин и др. Читатель получит возможность познакомиться с оценкой Троцкого многих произведений художественной литературы, живописи, архитектуры 10 — начала 20-х годов нашего века.
Впервые изданная в 1923 г., книга эта долгие годы была не только библиографической редкостью, но и запрещенным изданием. Сейчас она предлагается читателю.
Литература и революция. Печатается по изд. 1923 г. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Конечно, они прежде всего антиклерикалы. Дух Вольтера близок им всем (что, впрочем, никогда не дает необходимой гарантии против рецидивов лютеранства или католичества). У Гульбрансона, у Гейне, у Вильке, у альковного Резничека, у романтика Шульца вы найдете много безжалостных памфлетов в карандаше и в красках против тонзуры, четок, пасторского сюртука и капота пасторши. Шульц рисует на заглавном листе свирепого красного мопса, от которого во все стороны разбегаются черные мыши клерикализма, и подписывает: «Сим мы объявляем войну баварскому ландтагу». Лучистый Христос глядит у того же Шульца с облака на опоясавших цепью земной шар тучных, лоснящихся, жадных попов и восклицает с недоуменной скорбью: «Неужели вот эти — мои ученики?!» Гейне и Гульбрансон совершают частые экскурсии в те надзвездные сферы, куда бросает от себя мистические проекции земной мир четок и тонзуры. Но тут их кистью водит скорее добродушное неверие, чем активное отрицание. Когда же сутаны, под видом борьбы за добрые нравы, покушаются на искусство, тогда глаза мопса наливаются кровью, зубы злобно оскаливаются и — горе врагу! Иллюстрируя благочестивые постановления одной из конференций «союза нравственности» в Магдебургс, Бруно Пауль нарядил в «Симплициссимусе» стадо короз в купальные костюмы. «Отныне, — пояснил он, — коровы получают панталоны, дабы не причинять ущерба нравственности магдебургских быков». Те же магдебургские… моралисты у Гульбрансона отпиливают груди Венере Медицейской и ее жест стыдливости дополняют насаженной ей на руку меховой муфтой…
Что они отстаивают Венеру, что они не допускают посягательства на искусство, это понятно само собою: они — художники. Но можно сказать, что этим эстетическим свободолюбием исчерпывается их подлинное и несомненное credo. Их радикализм — бесформенное туманное пятно, озаренное золотыми лучами таланта — без плотного политического ядра, без центра социальных симпатий и антипатий. И тут их уязвимая пята. «Какое нам до этого дело? — воскликнет возмущенно Имярек Тринадцатый, известный пророк абсолютной „свободы“ искусства. — Вы хотели бы трепетную лань (мопса?) художественной сатиры впрячь в телегу политической партии?» Хотим мы этого или нет, вопрос особый. Но что с «трепетной ланью» свободного искусства дело обстоит не весьма благополучно и, во всяком случае, не столь просто, об этом свидетельствует судьба самого «Симплициссимуса».
Сатира не просто «воплощает» действительность, — она воспроизводит ее со знаком минус. В сатире, в карикатуре непосредственнее, чем в других родах искусства, заявляет о себе социально-политическая атмосфера, которою художник дышит и из которой он с большей или меньшей сознательностью заимствует свои критерии. Отыскать рабовладельческую Грецию в Венере Ледицейской — задача весьма сложная и тонкая. Но в муфте, которая должна облагородить эту Венеру, открыть уши баварского клерикала — не стоит никакого труда. «Минус» сатиры — в этом суть — явно и непосредственно определяется социальным углом зрения. Каков же угол зрения «Симплициссимуса»?
«Мой дар сводится к тому простому факту, что я не способен дышать мещанской атмосферой». Эти слова Франк Ведекинд, писатель, близкий кружку «Симплициссимуса» и по духу и по фактической работе [19] Деятельный сотрудник «Симплициссимуса» в первый период его существования, Ведекинд был, между прочим, в связи с этим сотрудничеством осужден за оскорбление величества. Позже Ведекинд резко порвал с «Симплициссимусом», но в разрыве этом не было, разумеется, ничего принципиального.
, вкладывает в уста «маркизу» Кейту, помеси «философа и конокрада», воплощению беспокойного духа богемы. И Ведекинд сам и весь кружок «Симплициссимуса» выступали на открытую арену с этим волчьим паспортом отщепенства. Но лукавый бес «мещанской атмосферы» хитро разбросал перед ними свои силки и петли. Они негодовали — бес мещанства одобрительно кивал им головой. Они издевались — он встречал их аплодисментами. Они швыряли ему в лицо свое презрение — он отвечал им эстетическим энтузиазмом. И он с незадумывающеюся щедростью оплачивал и их негодование, и их издевательства, и их презрение. И он решил их заласкать. В этом состояла его тактика.
Разумеется, легким «маркиза» Кейта пришлось приспособляться к атмосфере, а не атмосфере к легким. И в результате артист не только принял свой успех, но и примирился с ним. И оправдал его, и полюбил его, и подчинился ему. «Искусство и старанье без награды — погибли бы», — говорит Шекспир в «Цимбелине». «Награда», как видим, спасает искусство от гибели, укрощая его посредством аплодисментов и высокого гонорара.
«Мерилом значения человека является мир, а не внутреннее убеждение, которое внушают себе путем многолетних размышлений. Я не выставлял себя на рынке: меня открыли. Непризнанных гениев нет». Это говорит у Ведекинда знаменитый певец Жерардо, бывший каменщик. Его открыли, его заласкали, его подчинили. Он сам отдает себе в этом убийственно ясный отчет: «Мы, артисты, — говорит он, — предмет роскоши для буржуазии, за обладание которым набивают цену взапуски». Но вырваться он уже не может. Да и не хочет. Да и некуда.
Фигаро, пращур маркиза Кейта, вообще нынешней интеллигентной богемы больших городов, говорил величайшие дерзости французской аристократии восемнадцатого века. Она в ответ восторженно рукоплескала ему. Это было нечто несравненно большее, чем каприз. Ее изощренный сословный инстинкт подсказывал ей, что она может наслаждаться артистами и художниками, только позволяя им презирать себя. Правда, она этим, в последнем, так сказать, счете, и не подкупила и не укротила Фигаро. Наоборот. Через каких-нибудь пять лет его дерзость революционным потоком перелилась через все плотины… Но мы посмеялись бы над исторической правдой, если б вздумали утверждать, что искусство обнаружило тут самостоятельную силу, наперекор социальной атмосфере. Нисколько. Ничуть. Фигаро был просто перехвачен у аристократии мещанством, уже достаточно досужим, чтобы наслаждаться искусством, и достаточно богатым, чтобы оплатить его.
«Искусство и старанье без награды — погибли бы»… Не прошло столетия, как буржуазия оказалась по отношению к искусству в таком же положении, в какое она сама поставила аристократию. В течение недолгого периода ее историческое существование настолько опустошилось, что искусство могло служить ей отныне, лишь презирая ее. Однако она счастливее дворянства: ее историческим антагонистом оказался класс, лишенный необходимого досуга, чтобы ввести искусство в свой обиход, и необходимых средств, чтоб освободить художников из-под ее власти. Она сохранила их за собою… Они служат ей, презирая ее.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: