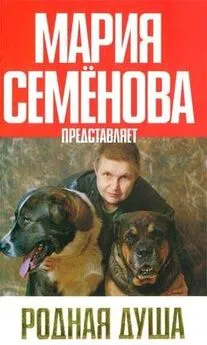Алла Латынина - “Патент на благородство”: выдаст ли его литература капиталу?
- Название:“Патент на благородство”: выдаст ли его литература капиталу?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1993
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алла Латынина - “Патент на благородство”: выдаст ли его литература капиталу? краткое содержание
“Патент на благородство”: выдаст ли его литература капиталу? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тезис “русская литература обличала буржуазию и господствующие классы и была на стороне угнетенных” (см. любой учебник русской литературы для средней школы 30 — 70-х годов) стоит тезиса “русская литература оболгала предпринимателя, промышленника, человека дела — единственную силу, способную вывести страну на путь европейского развития” (см. современную прессу).
Неудовлетворенность вторым тезисом вряд ли должна автоматически вести к признанию справедливости первого.
В самом деле— почему русская литература не жаловала владельцев роскошных шуб (как совершенно справедливо заметил Руслан Киреев)? В особенности если шубы эти доставались не по наследству, были нажиты неправедными путями — впрочем, праведной наживы русская литература тоже не признавала.
Как ни смеялись мы в свое время над социологическим подходом к литературе, но все же нельзя и не признать, что дворянское ее происхождение сильно сказывается на понятиях долга, достоинства, чести. А сообразно этим понятиям богатство могло быть лишь жалованным, добытым мечом, верной службой царю и отечеству. Незазорно было, хорошо управляя имением, добиться большого дохода. (Вспомним, сколько героев от помещика Муромского до толстовского Левина занимаются улучшением хозяйства.) Богатство можно получить в наследство, как Евгений Онегин (сколько сюжетов, сколько страстей разыгрывается вокруг наследства, как волшебно преображает миллион захудалого князя Мышкина, только что — предмет всеобщих насмешек!). Не столь уж зазорно выиграть в карты, в рулетку (тема игры, погони за призрачным богатством — одна из констант русской литературы: тут тебе и Пушкин с “Пиковой дамой”, и гоголевские игроки, и лермонтовская загипнотизированность карточной удачей, и, конечно, “рулетенбургские” страсти Достоевского).
Дворянская культура не идеализировала бедность, но усилия ради личного обогащения — презирала. Достоевский, по быту — разночинец, как никто другой в русской литературе чувствует дыхание нового века и власть капитала. Тема денег звучит почти в каждом его романе, вокруг них вертится нить интриги. Пусть Раскольников идейный преступник, но все же мысль убить и ограбить рождается сознанием, что новому Наполеону для первого шага деньги-то необходимы. Сто тысяч, брошенных в огонь Настасьей Филипповной, — кульминация романа “Идиот”. Аркадий Долгорукий (“Подросток”) сосредоточен на идее стать новым Ротшильдом. Тема Ротшильда — тема власти богатства. Но не разлюбил бы разве Достоевский своего Аркадия, если б вместо того, чтобы мечтать о миллионе, тот начал его сколачивать небольшими спекуляциями? И можно ли представить себе, чтобы Митя Карамазов, вместо того чтобы требовать у отца наследственные три тысячи, пустился в торговлю, чтобы их заработать?
Мечтать о деньгах — можно, спорить из-за наследства — пожалуйста, но как дело доходит до вопроса, каким же путем в реальности складывается богатство, так на сцену выходит вульгарный Петр Петрович Лужин, раздражающий уже тем, что слишком плохим судейским слогом пишет и слишком доволен своим новым, с иголочки, щегольским костюмом.
Раскольников, укокошивший старушку и Лизавету, Достоевскому много милее Лужина, которому даже то ставится в вину, что хочет взять за себя бедную девицу, дабы почитала его за благодетеля.
Нет, не потому не нравится Лужин Достоевскому, что как-то особенно плох, а потому и плох, что не нравится; а не нравится — потому что выскочка, нувориш, потому что подозрительны его капиталы — уж верно, не праведно нажитые?
Казалось бы, вторая половина XIX века, после александровских реформ, когда в литературу пришел разночинец, сам ученный на медные деньги, должна была изменить точку зрения на предпринимательство и человека, всего добившегося своими руками. Но ничего подобного. Глеб Успенский, Решетников, Слепцов, Гаршин стенают о нищете и страданиях бедняков и обличают; как раньше любили писать, “буржуазное хищничество”.
Если создать некий собирательный образ русского писателя, то он, писатель этот, вполне бы мог повторить слова Константина Леонтьева: “С одной стороны, я уважаю барство; с другой, люблю наивность и даже грубость мужика. Граф Вронский или Онегин, с одной стороны; а солдат Каратаев — и кто?.. ну хоть бирюк Тургенева для меня лучше того “среднего” мещанского типа, к которому прогресс теперь сводит мало-помалу всех и сверху и снизу, и маркиза и пастуха” (“Восток, Россия и Славянство”). .
“Среднего мещанского типа” не выносила эта литература — при всем том, что никто из русских писателей, пожалуй, не позволил бы себе, как Леонтьев, рекомендаций “подморозить” Россию: не для того, мол, Моисей всходил на Синай, гениальный красавец Александр бился под Арбеллами, апостолы проповедовали, мученики страдали, словом, не для того история была столь величественна и прекрасна, чтобы “французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия”.
Русская литература была за прогресс, а Леонтьева почитала не просто консерватором, а мракобесом, что, однако, не мешало прогрессистам столь же яро ненавидеть “твердый напор серых людей”, срединное царство буржуа, как ненавидел его Леонтьев.
И потому разночинец, пришедший в литературу, готов был любить мужика, но бдительно следил за тем, чтобы мужик не выбился в кулака, предпринимателя, купца, в денежного магната. Чуть позже литература воспылала любовью к пролетарию, к босяку. Горький наследовал присущий русской литературе пафос антибуржуазности и, в согласии с русской версией марксизма, питал убежденность, что четвертое сословие, не обремененное собственностью, в силу этого лишено хватательных инстинктов и руководствуется высшими интересами.
Потребовался период торжества этого сословия, чтобы Булгаков встал в оппозицию к русской литературе и указал пролетарию его место — место собаки при барине-интеллектуале, чтобы Зощенко создал свою галерею типов, а Мандельштам заметил, что именно Зощенко показал нам “трудящегося человека”, чтоб дядюшка Авенир, герой солженицынского романа (“В круге первом”), растолковывал племяннику всю нелепость идеи провозгласить пролетария гегемоном: мол, “самый дикий” класс, — обнаруживая в аргументации знакомство с “Философией неравенства” Бердяева, еще в 1923 году бросившего в лицо вчерашним друзьям по ссылкам, а ныне недругам по социальной философии: “"Тип пролетария" есть скорее низший человеческий тип... Он принижен нуждой, он отравлен завистью, злобой и местью, он лишен творческой избыточности. Может ли из этих душевных стихий родиться высший человеческий тип и высший тип общественной жизни?”
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: