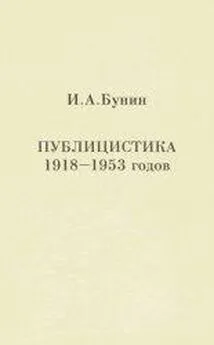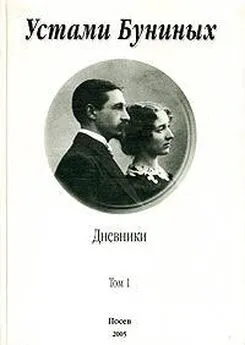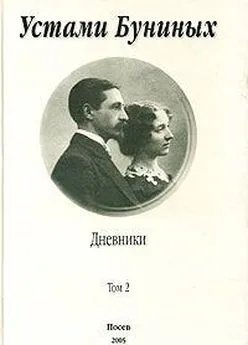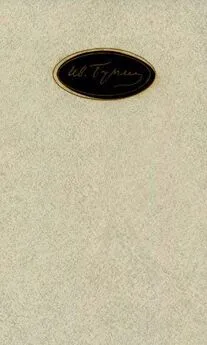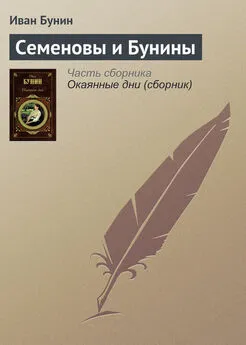Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов
- Название:Публицистика 1918-1953 годов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наследие
- Год:1998
- Город:Москва
- ISBN:5-201-1326-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Бунин - Публицистика 1918-1953 годов краткое содержание
Книга включает в себя все выявленные на сегодняшний день тексты публицистических статей И. А. Бунина за период с 1918 по 1953 год. В большинстве своем публицистика И. А. Бунина за указанный период малоизвестна и в столь полном составе публикуется у нас впервые. Помимо публицистических статей И. Бунина в настоящее издание включены его ответы на анкеты, письма в редакции, интервью, представляющие как общественно-политическую позицию писателя, так и его литературно-критические высказывания.
http://ruslit.traumlibrary.net
Публицистика 1918-1953 годов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Первое выступление на литературных вечерах — осенью 1895 года, в Петербурге, в знаменитом зале Кредитного общества.
Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напечатал рассказ «На край света», — о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге, — в первый раз в жизни, — и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного, морозного Невского. Возле огромного дома «Кредитного общества» блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток… Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь, — и сразу попадаю в общество самых отборных знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: «сам» Николай Константинович Михайловский, «сам» Потапенко, — он тогда гремел на всю Россию, — затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич, — он славился как отличный чтец, — и «сам» Петр Исаевич Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в великолепнейшем фраке и белом галстуке, с острым и голым, сияющим черепом, совершенно юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали за нее Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над огромным столом, загроможденным цветами, фруктами и винами, — и вдруг быстро повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, как-то мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов студентов из числа распорядителей вечера, вплыла М. Г. Савина, а за нею, не в меру щурясь, приставив лорнет к глазу, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: З. Н. Гиппиус, сопровождаемая Мережковским.
— Божественная! — воскликнул все с тем же торжественно-комическим пафосом Вейнберг, возводя глаза к потолку и целуя руку Савиной. — А мы уж тут с ног до головы трепетали: а вдруг вы не пожалуете!
И тотчас же вслед затем начался вечер, и тут я впервые увидел всю бездну человеческого честолюбия и самолюбия. В тишине, сразу наступившей после третьего звонка и в артистической и в зале, почти все участники вечера, при всей своей славе и привычке к публичным выступлениям, вдруг даже побледнели от волнения, от близости своего выхода на эстраду, — даже Михайловский стал как-то не в меру строг и серьезен, — и многие тотчас же стали, шепотом и вполголоса, наизусть, и по книжкам, зубрить то, что надо было читать, — особенно большеголовый Минский: тот побледнел уж совсем как смерть и зазубрил со страстностью одержимого. Не проявил никакого видимого волнения, помнится, только Вейнберг да Баранцевич, бодро пошедший на эстраду первым…
Я, конечно, читал «На край света» и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. Баранцевич, как человек многоопытный, этот успех заранее предвидел и потому «по-товарищески» предупредил меня:
— Не читайте, дорогой Иван Васильевич, громко. Эта зала странная: громкий голос гудит в ней, как в бочке. Читайте ровно и ничуть не поднимая голоса…
Но я, к счастью, тотчас же понял, выйдя на эстраду, цену этой товарищеской заботливости: в зале было тысячи три человек, она была битком набита, сверху донизу, читать в ней «ровно и ничуть не поднимая голоса» значило осрамить себя до девятой пуговицы, — никто бы и звука не слыхал…
Про успех прочих и говорить нечего — они хорошо знали свое дело.
Вейнберг потрясал залу своим громовым, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно, на каждом таком вечере, — свои стихи «К морю», которое, конечно, означало всякие конституционные «свободы» (об Учредительном собрании тогда еще не мечтали):
Бесконечной пеленою Развернулось предо мною Старый друг мой, — море! Сколько мощи необъятной. Сколько воли благодатной В царственном просторе!
Засодимский, страшный заика, отрывисто выпаливал тоже свое неизменное — из Некрасова:
Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай!
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай!
Что читал Потапенко, не помню. Да и неважно было, что именно он читает, — для публики было вполне достаточно того, что это Потапенко, автор знаменитой повести «На действительной службе», рассказа «Шестеро», и так далее. Кроме того был он тогда кумиром публики еще и потому, что был очень красив (красотой немного дурного тона, но весьма яркой и лихой какой-то).
А Гиппиус вызвала целую бурю — и негодующих криков, и рукоплесканий: она читала стихи о том, что она любит себя «как Бога».
<���Ответ на анкету А. Седых «Писатели о своих книгах»> *
— Позвольте уклониться от ответа. Пушкин был, конечно, прав, говоря «взыскательному художнику», что этот художник «сам свой высший суд». Всякий настоящий писатель, конечно, может кое-что сказать о себе не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, такта, меры, тончайшего чувствования каждого слова, каждого звука, который он употребляет, да и всего произведения в целом, его тона, строя, смысла, цели… И все-таки критиковать самого себя публично с надлежащей искренностью и подлинной простотой дело едва ли возможное.
От ответа на вопрос, что я думаю о «Жизни Арсеньева», уклонюсь еще и потому, что никак не мог бы высказаться о ней в нескольких словах — вещь эта во всяком случае довольно сложная. Кроме того, та часть ее, которая выходит теперь под заглавием «Истоки дней», хотя и имеет самостоятельную ценность, есть все-таки пока только часть.
Записная книжка (о современниках, о Горьком) *
То, что я стал писателем, вышло, мне кажется, как-то само собой, без всяких моих решений на этот счет, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь «на роду написано». Хорошо сказано, что человек делается тем, о чем он думает. Но все-таки это не решает вопроса, почему один думает об одном, а другой о другом. От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить их и не писателями, а вот самого себя не представляю. Были во мне с детства большие склонности к музыке, к живописи, к ваянию. Мой домашний воспитатель играл на скрипке, рисовал акварелью — и я и до сих пор помню какое-то совсем особенное волнение, с которым я брал в руки его скрипку или пачкал бумагу красками. В уездном городе, где я учился в гимназии, я одно время жил у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и даже достиг вскоре таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кладбищенские кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают. Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: