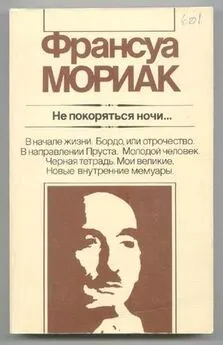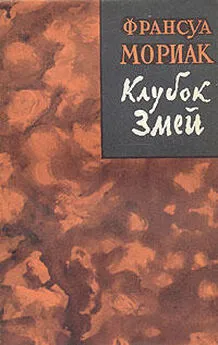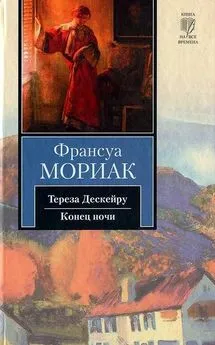Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика
- Название:He покоряться ночи... Художественная публицистика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Франсуа Мориак - He покоряться ночи... Художественная публицистика краткое содержание
Francois Mauriac
ФРАНСУА МОРИАК
He покоряться ночи...
Художественная публицистика
Перевод с французского
Москва «Прогресс» 1986
Составители и авторы комментариев к. ф. н. И. С. Ковалева, д. ф. н. В. Е. Балахонов
Автор предисловия д. ф. н. В. Е. Балахонов
Художник В. И. Левинсон
Редактор Т. В. Чугунова
В работе над сборником приняла участие д. ф. н. З. И. Кирнозе
Мориак Ф.
Не покоряться ночи: Худож. публицистика. Пер. с фр. / Предисл. В. Е. Балахонова. — М.: Прогресс,
1986. — 432 с., 2 л. ил.
В сборник публицистики Франсуа Мориака (1885—1970), подготовленный к 100-летию со дня рождения писателя, вошли его автобиографические произведения «В начале жизни», «Бордо, или Отрочество», афоризмы, дневники, знаменитая «Черная тетрадь», литературно-критические статьи.
Рекомендуется широкому кругу читателей.
Источник электронной публикации: http://www.belousenko.com/
He покоряться ночи... Художественная публицистика - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Противоречивости моей литературной позиции вполне соответствовала противоречивость моих политических взглядов. В восемнадцать лет я входил в «Сийон», в студенческие годы боролся в своем узком кругу против «Аксьон Франсез». Но в тот период моей жизни, о котором я пишу теперь, сразу после первой мировой войны, я смотрел на историю глазами Жака Бенвиля *. Меня считали правым. Как журналист я получил боевое крещение в «Голуа», потом в «Эко де Пари». Однако уже в ту пору мои романы начали внушать тревогу правому крылу католиков, ибо лили воду не на его мельницу. Все окончательно прояснилось в период войны в Испании. Отчего же изменились мои взгляды?
В 1922 году, выпустив «Поцелуй, дарованный прокаженному», я впервые разорвал тесный круг трехтысячного тиража и получил доступ к широкой публике: издания выходили одно за другим. Итак, пророчество Барреса сбылось только через двенадцать лет. В следующем году его не стало; боюсь, умер он с убеждением, что ошибся во мне. Я помню этот первый луч славы: с женой, тремя детьми (Жан еще не родился) и Катрин Беклер, которая тогда уже служила у нас и служит до сих пор, хотя прошло почти полвека, мы устроились в Болье в маленькой гостиничке (сейчас ее уже нет), где я платил сто франков в месяц за всю семью. Благодаря нашим друзьям Готье-Виньялям мы познакомились со всеми интересными людьми, отдыхавшими в это время на побережье, и на одном пикнике были представлены Ремонде Эдебер. Она нарисовала прекрасный портрет моей жены. На следующий год ее моделью стал я: этот изумительный портрет помещен в подарочном издании романа «Прародительница».
Следующие десять лет вплоть до операции в 1932 году * и избрания во Французскую Академию в 1933 году — это «Прародительница», «Зло», «Пустыня любви», «Тереза Дескейру», «Судьбы», «То, что было утрачено», а также новеллы, эссе — впрочем, обо всем этом я уже говорил и не буду больше к этому возвращаться.
Отмечу, однако, что за три года до операции — этого предупреждения свыше — я пережил религиозный кризис *, и решающую роль в изменении моего мировоззрения сыграли испанские события.
В декабре 1935 года я как корреспондент одной крупной газеты был в Риме во время встречи Лаваля с Муссолини *, благодаря дружбе с Шанбрёнами * я присутствовал на большом обеде в честь Муссолини в набитом полицейскими дворце Фарнезе. Насколько я помню, обед прошел в ледяной обстановке. Муссолини сказал мне: «Я прочту ваши статьи о Риме». Мы и не подозревали, что в эти дни решалась наша судьба, и не знали, какую роковую ошибку совершил Лаваль, уступая Муссолини Абиссинию, входившую в Лигу Наций.
Начиная с 1936 года я открыто выступаю против Франко. Я становлюсь в Париже президентом Общества друзей басков, а позже возглавляю Аншлюс *, оказывающий помощь беженцам из Австрии (почти сплошь евреям). Для меня, как и для Маритена *, как и для Бернаноса *, главное — уберечь церковь от пагубного компромисса. Я сотрудничаю в левых католических еженедельниках «Сет» и «Тан презан». Отныне я уже не сверну с этого пути и буду идти по нему даже во время бесконечного периода оккупации. Я ни на день не покидал оккупированную зону. «Черная тетрадь», вышедшая в 1943 году в издательстве «Минюи», но написанная в 1941 году, лучше всего выражает мои чувства тех лет. Впрочем, достаточно открыть любую коллаборационистскую газету, начиная с 1940 года, чтобы убедиться, что я был для фашистских прислужников притчей во языцех. Если за двумя фразами, которые я в июне 1940 года написал в похвалу маршалу *, не последовало продолжения, то не оттого, что я разочаровался в нем самом — в первые два года я еще верил в него, — но оттого, что вишистский дух вызывал у меня омерзение с самого начала и коллаборационисты платили мне взаимностью. Я собирался описать здесь, как я прожил эти четыре года. Один бог знает, сколько бы я мог рассказать! Но пришлось бы бередить слишком много ран, и я предпочитаю молчать.
После Освобождения жизнь моя была у всех на виду, так что о ней, наверно, не стоит и говорить. Несмотря на то что в 1952 году мне присудили Нобелевскую премию, я был живым обломком ушедшей эпохи. Во всяком случае, так я себя чувствовал в это время. Перед войной шумный успех моей пьесы «Асмодей» на сцене Комеди-Франсез * пробудил в моей душе сладостные надежды. Эдуар Бурде * и Жак Копо приобщили меня к мукам и радостям сцены, и я уверовал, что мне суждено второе рождение в качестве драматурга и что здесь я обрету себя. Я льстил себя надеждой обновить театр, перенести на сцену колорит и атмосферу моих романов. Кроме того, у меня было свое представление о разговорном языке, и я реализовал его во второй пьесе: «Нелюбимые» *. Все это длилось недолго: я пришел в театр слишком поздно и не смог стать профессионалом. Я так и не научился ни распределять роли, ни вести репетиции, ни спорить с актерами. Добавлю, что тому, кто, как я, уже почти тридцать лет бросается очертя голову во все политические баталии и сражается не на жизнь, а на смерть, опасно выходить безоружным на сцену и отдавать себя на растерзание толпе.
Я вовсе не отрекаюсь от того, что написал для театра: «Асмодей» и «Нелюбимые» не сходят со сцены Комеди-Франсез. И рано или поздно все поймут: лучшее, что я написал, — это роль сестры в «Земле в огне» *. Тем не менее великая надежда, которую я возлагал на театр, как, впрочем, и надежда на поэзию, довольно скоро развеялась (хотя я верил и до сих пор верю в «Бури» и «Кровь Аттиса» *). Что касается романов, то война провела резкую границу между поколениями. Появилось новое поколение читателей, оно предъявляет другие требования к роману — количество изданий не дает об этом ни малейшего представления. Старый автор продолжает свой путь. Но он как бы утрачивает благодать. И если мы постепенно приходим к молчанию — тому виной не столько холод наступающей старости, сколько эта утрата. Мое творчество, начиная с «Фарисейки» (1941) и кончая «Обезьянкой» и «Агнцем», свидетельствует, что я еще на что-то годен, что моя жизнь в литературе продолжается; и все-таки я не живу, а доживаю. Выжить — это еще не все.
Помимо моей воли и без моих стараний случилось так, что я удержался на борту корабля современности благодаря политике, тому, что Рембо назвал «борьбой людей». Поэтому напоследок я хотел бы рассказать о тех обстоятельствах, при которых родилось и созрело это мое последнее призвание.
Конечно, теперь, по прошествии двадцати пяти лет, я так же предан генералу де Голлю, как и прежде. Но в первые годы Четвертой Республики я думал, что он годится только за неимением лучшего. Тогда я еще не разочаровался в парламентской демократии. Если под конец жизни я разошелся с большей частью людей, которые с 1935 года были моими соратниками, тому виной отнюдь не непостоянство, в котором меня обвиняли: мои политические взгляды определились очень рано, еще в эпоху «Сийона», и я им не изменял. Но поскольку я никогда слепо не повиновался никакой партии, я всегда, в любых обстоятельствах, доверял своей интуиции, а не приказам и директивам. Между прочим, именно это в первую очередь роднит меня с де Голлем. Оба мы самые раскованные из всех французов, имеющих какие бы то ни было общественно-политические позиции, и воистину самые свободные.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: