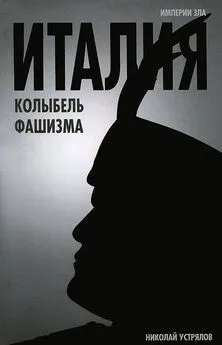Николай Устрялов - Германия. В круговороте фашистской свастики
- Название:Германия. В круговороте фашистской свастики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0111-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Устрялов - Германия. В круговороте фашистской свастики краткое содержание
Книга известного отечественного социолога, теоретика и представителя правого национал-большевизма И. В. Устрялова (1890–1937) впервые увидела свет в 1933 году. И в этом же году, как известно, совершенно законным, конституционным путем к власти пришел Гитлер (30 января 1933 года он был назначен канцлером). Исследование относится к ряду знаковых, на протяжении многих лет малодоступных трудов по истории немецкого национал-социализма Книга снимает пелену таинственности со стремлений нацистских лидеров, заставляет читателя переосмыслить не только историю Германии после 1918 года, но и по-новому взглянуть на события 1930-х годов в контексте мировой истории.
Перед нами немецкая национал-социалистическая революция — глазами обвиненного 14 сентября 1937 года в «шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации» и в тот же день расстрелянного диссидента-радикала.
Германия. В круговороте фашистской свастики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мартинистским можно назвать и его пристрастие к выявлению в тексте Библии эзотерических учений, таинственных намеков и откровений, к визионерским ее толкованиям, его интерес к Сведенборгу, акцент на непостижимости путей, которыми свершаются Божественные чудеса, на непредсказуемости Провидения, преображающего случайные следствия человеческой деятельности в движущие силы исполнения Божьих замыслов, о чем и не подозревают безнадежно близорукие исполнители. В годы его юности церковь, во всяком случае — в Савойе, не порицала масонских склонностей среди паствы; во Франции масоны под руководством Виллермоза были оружием в борьбе против таких врагов, как материализм и антиклерикальный либерализм Просвещения. Ранние масонские симпатии де Местра стали постоянным источником преследовавших его всю жизнь подозрений со стороны наиболее фанатичных защитников церкви и королевской власти, хотя он был неукоснительно предан и той и другой. Но это началось позже: во времена его молодости при дворе герцогов Савойских был распространен мягкий — по сравнению с французским королевским двором — прогрессизм.
Когда в Париже начался революционный террор, в Савойе его встретили с недоверчивым ужасом; к якобинцам здесь относились практически так же, как в консервативных кругах Швейцарии в 1871 г. воспринимали Парижскую коммуну, а в течение Второй мировой войны — движение Сопротивления во Франции, когда перепуганные добропорядочные граждане Женевы и Лозанны с симпатией взирали на маршала Петена.
Почтенная, склонная к либерализму придворная аристократия в ужасе отшатнулась от катаклизмов, сотрясавших Францию. Когда воинственная Французская республика вторглась в Савойю и аннексировала ее, король был вынужден сначала бежать в Турин, затем провести несколько лет в Риме, а после того, как Папа Римский оказался заложником Наполеона, — удалиться в Кальяри, столицу Сардинии. Де Местр, поначалу одобрявший деятельность французских Генеральных штатов, вскоре изменил свое мнение и уехал в Лозанну; оттуда он направился в Венецию и Сардинию, где вел типичную жизнь эмигранта-роялиста, лишившегося средств, и служил своему государю, сардинскому королю, который существовал на русские и английские субсидии. Из-за своих радикальных настроений и взглядов, которые он всегда отстаивал и выражал с излишней горячностью, де Местр оказался неудобным для консервативного, провинциального, пугливого маленького двора. Он мог и предвидеть это, когда его друг Анри Коста отговаривал его от публикации написанного в 1793 г. сочинения («Писем савойского роялиста к соотечественникам»): «Все, что обдумано слишком сильно и содержит чересчур много энергии, в этой стране распродается плохо». Вероятно, его назначение в Петербург в качестве официального представителя Сардинского королевства в 1803 г. было воспринято с известным облегчением.
Революция — и это неудивительно — потрясла сильный и цепкий ум де Местра, заставив его пересмотреть самые основания своей веры и убеждений. Его либерализм, и без того довольно маргинальный, исчез бесследно. Он стал свирепым критиком всех форм конституционализма и либерализма, легитимистом-ультрамонтаном, убежденным в божественном происхождении власти и силы, и, разумеется, непреклонным противником всего, за что ратовала эпоха Просвещения, — рационализма, индивидуализма, либеральных компромиссов и светского воспитания. Его мир, вдребезги разбитый дьявольскими силами атеистического рассудка, мог быть восстановлен только в том случае, если бы отсекли все головы революционной гидры во всех ее многочисленных обличьях. Два мира сошлись в смертельном поединке. Де Местр выбрал, на чьей он стороне, и не собирался щадить врага.
…Как бы значительны ни были расхождения между мыслителями, некоторых убеждений никто из них не оспаривал. Все они, пусть в разной степени, верили, что люди по природе своей создания разумные, общественные и, уж во всяком случае (если только их не обманывают мошенники и не сбивают с дороги дураки), способные разобраться, что именно необходимо им самим и окружающим. Они считали, что, если людей научить, они будут следовать правилам, доступным разумению обычного человека; что существуют законы, управляющие живой и неживой природой, и что законы эти, вне зависимости от того, доступны они эмпирическому познанию или нет, становятся очевидны, стоит человеку вглядеться в себя или во внешний мир. Они считали также, что открытие таких законов и знание их, будь оно достаточно широко распространено, само по себе привело бы к устойчивой гармонии и между человеком и обществом, и внутри самого человека. Большинство из них верило в то, что максимум личной свободы совместим с минимумом власти, — во всяком случае, после того, как люди будут соответствующим образом перевоспитаны. Они думали, что образование и законодательство, основанные на «предписаниях природы», в состоянии исправить практически любое заблуждение и зло; что природа — это всего лишь разум в действии, и значит, всякое ее явление в принципе можно объяснить исходя из набора элементарных истин, подобных геометрическим теоремам, а позднее — законам физики, химии и биологии. Они верили, что все благое и желательное можно совместить, и даже более — что все ценности связаны между собой паутиной прочных, логически сцепленных отношений. Те из них, кто мыслил наиболее эмпирически, были уверены в том, что наука о природе человека может развиваться не менее успешно, чем изучение неодушевленных объектов, и что вопросы этики и политики (если они сформулированы верно) можно в принципе разрешить с не меньшей определенностью, чем математические и астрономические задачи. Жизнь, устроенная на основании полученных ответов, была бы свободной, безопасной, счастливой, добродетельной и мудрой. Говоря коротко, они не видели причины, которая помешала бы достичь золотого века при помощи тех способов и методов, которые за сто лет привели естественные науки к победам куда более великолепным, чем все, чего человеческая мысль достигла на протяжении предшествующей истории.
Де Местр поставил себе задачу ниспровергнуть все это. Вместо априорных формул подобного идеализированного взгляда на основания человеческой природы он апеллировал к конкретным фактам истории или зоологии и наблюдениям здравого ума. Вместо идеалов прогресса, свободы и способности человека к совершенствованию он проповедовал спасение при помощи веры и традиций [5]. Он подчеркивал, что человек по природе своей безнадежно дурен и развращен, а значит, необходимы власть, иерархия, послушание и подчинение. Первенствующую роль он отводил не науке, а инстинкту, христианской мудрости, предрассудкам (представляющим собой плод опыта многих поколений), слепой вере; вместо оптимизма проповедовал пессимизм, вместо вечной гармонии и мира — предопределенную свыше неизбежность вражды и страдания, греха и возмездия, кровопролития и войны. Вместо идеалов мира и социального равенства, основанных на общности интересов и естественной добродетельности, он провозглашал, что неравенство неотделимо от природы вещей, а ожесточенный конфликт целей и интересов — необходимое условие бытия падшего человека.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: