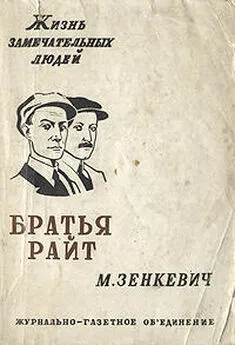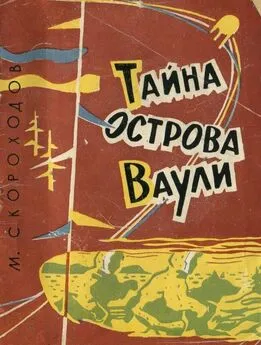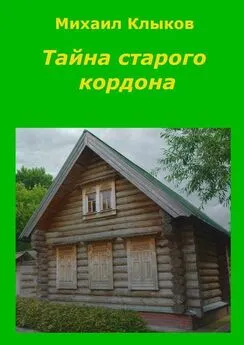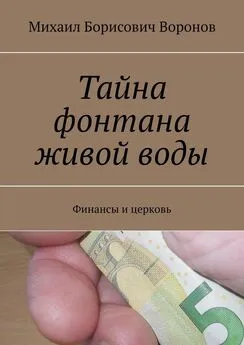Л Озерова - Михаил Зенкевич - тайна молчания
- Название:Михаил Зенкевич - тайна молчания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л Озерова - Михаил Зенкевич - тайна молчания краткое содержание
Михаил Зенкевич - тайна молчания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Встречаясь, увы, далеко не часто, с Михаилом Алек-сандровичем, я хотел у него спросить, пишет ли он но-вые произведения, почему редко встречаю его в печати. Хотел спросить, но не решался. Деликатный вопрос, серьезный, тяжелый. Мне казалось, что поэт с такой энергией жизни, с таким эмоциональным зарядом не может молчать. "Пыжиться" Михаил Зенкевич не при-вык, не умел. Творчество для него - акт свободного во-леизъявления. Это ему принадлежит ироническое чет-веростишие: Поэт, бедняга, пыжится, Но ничего не пишется. Пускай еще напыжится,- Быть может, и напишется.
Нетрудно было понять, что произошла катастрофи-ческая ломка быта, бытия, обычаев, нравов, культуры. Опасаясь сыска, преследования, угроз, арестов, ссы-лок, люди бросали в огонь дневники, исповеди, произве-дения, которые могли бы счесть недозволенными.
Не эмигрировавшие поэты для того, чтобы спасти себя и свое оригинальное творчество, "уходили в пере-вод" (почти термин). Общей участи не избежал и Миха-ил Зенкевич. Он и вошел в когорту сильнейших масте-ров русского поэтического перевода, создав свою шко-лу, особенно в переводе американской поэзии. Не будет преувеличением сказать, что Михаил Зенкевич открыл Америку поэтическую, открыл для русской читающей публики.
И только порой по отдельным прорвавшимся в пе-чать стихам можно было догадаться, что муза его не за-молчала, а мастерство набирает силу.
В "Избранном" (1973) мы находим стихи, говорящие о неувядаемости таланта поэта. Так, например, "Смерть лося" - словно живопись в движении, не за-стывшая моментальная фотография, а динамика кино.
...заломив рога, вдруг ринулся сквозь прутья По впадинам глазным хлеставших жестко лоз, Теряя в беге шерсть, как войлока лоскутья, И жесткую слюну склеивших пасть желез.
Это не только видишь и слышишь, это делает тебя, читателя, очевидцем, а отчасти и участником действа. Момент смерти лося дается без смакования, сочувст-венно и трепетно. Художник как бы сам испытывает боль животного.
С размаха рухнул лось. И в выдавленном ложе По телу теплому перепорхнула дрожь Как бы предчувствия, что в нежных тканях кожи Пройдется, весело свежуя, длинный нож. Здесь останавливает внимание удивительно точный глагол в отношении дрожи - "перепорхнула". Это уви-дено изнутри. "Дрожь" корреспондирует не только к этому глаголу ("перепорхнула"), но и к следующему словосочетанию "как бы предчувствия".
У Михаила Зенкевича живопись словом сходна с манерой барбизонцев, импрессионистов, экспрессио-нистов: купанье, пригон стада, рассвет, закат,-ночь... Например, купальщицы у него:
То плещутся со смехом в пене, Лазурью скрытые по грудь, То всходят томно на ступени Росистой белизной сверкнуть.
Поэт не просто рисует пейзажи, но за внешним изо-бражением передает скрытую суть наблюдаемого. Вот ястреб выследил жертву. Поэт предчувствует неотвра-тимое. Но он вместе с тем видит не только темную зной-ную точку в небе - ястреба, но и его страсть.
Роковые, гибельные, трагические мгновения жизни, границы жизни и смерти, их зыбкое состояние, боре-ние - это всего более привлекает поэта. Гибнет "Тита-ник", гибнет Пушкин, гибнет усадьба и с ней рояль ("Мы призраки прошлого. Горе нам! горе! Мы гиб-нем. За что? за что?"), гибнут пять декабристов (по сти-хотворному медальону - каждому из них). Поэт стано-вится летописцем гибнущего мира. Но "в духе време-ни" он (точнее, его герой, взращенный безжалостным временем) не хочет скорбеть о былом. И он попрекает себя в неуместной чувствительности, в интеллигент-ской жалости.
Невольно приходится думать о драма поэта в вихре-вую эпоху, в смутное время. Поэту с такой неистовой жаждой жизни, какой был наделен Михаил Зенкевич, надо прилагать огромное усилие, чтобы не сломаться, не опозорить свое имя, мужественно пройти сквозь цепь крушений и разочарований. Он с иронией относит-ся к тем, кто "пыжится", прибегает к самонасилию и суррогатам искусства. По отношению к другим. А по отношению к себе? Степень взыскательности здесь еще большая:
Зачем писать такие стихи, Бесполезные и никому не нужные?
Редко, все реже и реже выступал Михаил Зенкевич со стихами. Он не желал участвовать в литературной ярмарке, в борении амбиций подхалимов и прихлеба-телей.
Холопство ль, недостаток ли культуры, Но табели чинов растут у нас, Как будто "генерал литературы" Присваивает званием указ. Здесь сказались не только старая закваска Михаи-ла Зенкевича, его воспитание, но и истинный вкус и такт художника, честно и прямо глядящего на мир и в глаза современников. Он себя не готовил в литера-турные генералы. Это было ему чуждо.
Когда в 1966 году к почтенному юбилею он получил телеграмму, в которой были слова: "...от души привет-ствуем поэтического патриарха", последовал его стихо-творный ответ:
Стал я сразу вдруг Всех поэтов старше. Дайте ж мне клобук Белый патриарший!
Михаил Зенкевич не афишировал своего внутренне-го несогласия с порядками, царившими в стране и ли-тературе. Он ждал суда читателей, пусть эти читатели и придут позднее, в будущем. Строже всех поэт судил самого себя. И это в обычаях русской поэзии.
Нет безжалостней, нет беспощадней судьи, Он один заменяет весь ревтрибунал, Он прочтет сокровенные мысли твои, Все, которые ты от всех близких скрывал. Наблюдение и автобиографическое признание, ми-мо которого нельзя проходить, оценивая творчество по-эта в целом.
От него ты не скроешься даже во сне, Приговор его станет твоею судьбой. Так по вызову совести, наедине Сам с собою ты будешь в ночной тишине Суд, расправу вершить над самим собой.
Это сказано в 1956 году. Поэту семьдесят лет. Чув-ство, разум, совесть продолжают бодрствовать. Еще более, еще острей и воспаленней, чем в молодые годы.
При слове "акмеисты" сразу же возникают три име-ни: Николай Гумилев, Анна Ахматова, Осип Мандель-штам. А дальше? Дальше - недоуменная пауза.
И только немногие знатоки и любители воэаии на-зывают Михаила Зенкевича. Мы не обращались к мод-ным сейчас социологическим опросам, не собирали мнения. Наше участие в литературной жизни подска-зывает нам это прочное и звомкое имя: Зенкевич, Ми-26
хайл Александрович Зенкевич. Цифирь редко дружит с поэзией. Четвертый, так четвертый. Внятно. Внук поэ-та Сергей Евгеньевич Зенкевич убедил нас в правомер-ности такого счета. Он, конечно, условен. Куда умест-нее сказать: "Златокудрый Миша". И вот почему.
Это словосочетание, это прозвище я услышал из уст Анны Ахматовой. Она оживилась, рассказывая мне о днях молодости, о Царском Селе, откуда друзья-акме-исты часто ездили в Петербург. Это были совместные веселые поездки. И веселье это происходило во многом от "златокудрого Миши". Анна Андреевна причисляла Михаила Александровича Зенкевича к истинным акме-истам. Иногда она говорила: "Нас было шестеро", под-час: "Нас было семеро". Мы же ныне скажем: он был акмеистом и этого вполне достаточно. Равным среди равных. Он прошел большой жизненный и творческий путь и, наверное, всегда помнил слова, сказанные его другом Николаем Гумилевым о "Дикой порфире": "Ди-кая порфира" - прекрасное начало для поэта. В ней есть все: твердость и разнообразие ритмов, верность и смелость стиля, чувство композиции, новые и глубокие темы. И все же это только начало, потому что все эти качества еще не доведены до того предела, когда про-сто поэт делается большим поэтом. В частности, для Зенкевича характерно многообещающее адамистиче-ское стремление называть каждую вещь по имени, словно лаская ее. И сильный темперамент влечет его к большим темам, ко всему стихийному в природе или в истории".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: