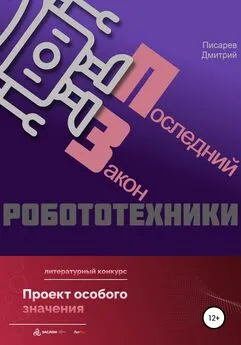Дмитрий Писарев - Московские мыслители
- Название:Московские мыслители
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Писарев - Московские мыслители краткое содержание
Московские мыслители - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
IX
Скучно и утомительно следить за критическим отделом "Русского вестника"; не на чем остановиться; нет свежей идеи, которой можно было бы выразить свое сочувствие; нет живого слова, которое могло бы хоть сколько-нибудь шевельнуть мозговые нервы. Пять книжек (от января до мая) просмотрено; почти пятьдесят страниц написано по поводу их; стало быть, можно считать дело порешенным. Если продолжать подробный разбор отдельных критических статей, то это будет только накопление мелких фактов, способных, наконец, утомить внимание самого терпеливого и благосклонного читателя. Если выводить общее заключение из всего, что было сказано мною о критическом отделе "Русского вестника", то это будет сокращенное, сухое, бесполезное повторение всего того, что уже успели просмотреть читатели. Поэтому приведу еще два-три критические перла и покончу на том мою неумеренно разросшуюся статью.
Перл э 1. Г. Лонгинов в статье "Белинский и его лжеученики" признал влияние Белинского вредным на том основании, что Белинский плохо знал историю нашей литературы. В подтверждение этого обвинения, направленного против первого русского критика, приводится следующее обстоятельство:
"В обозрении русской литературы до Пушкина Белинский приводит (пишет г. Лонгинов) отрывок из предисловия Хераскова к повести его "Полидор", вышедшей в 1794 году. В этом предисловии автор обращается к известным русским писателям. У Хераскова имена их обозначены первыми буквами их фамилий. Белинский выставляет полные имена Ломоносова, Державина, Карамзина, Нелединского, Дмитриева, Богдановича и Петрова. Но тут же вышло и затруднение. После обращения к Л. (Ломоносову) Херасков говорит: "_Может ли кто не плениться нежными и приятными звуками С.?_" Очевидно, что Херасков разумел тут А. П. Сумарокова, с которым много лет шел по одному пути, как лирик и драматург, и сочинениями которого продолжал пленяться до своей смерти, подобно многим современникам. Но Белинский делает при букве С. следующую выноску: "_Должно быть, дело идет о Евстафии Станевиче, весьма плохом пиите того времени_".
Затем г. Лонгинов очень убедительно доказывает, что Станевича не мог хвалить Херасков и что Белинский сделал грубую ошибку, что он поддавался увлечению "собственных страстей и пристрастий" и что его литературные приговоры писаны "иногда в ослеплении пристрастия".
Все дело кончается тем, что г. Лонгинов приводит следующий отрывок из одного неизданного стихотворения:
Затем на скопище клевретов
Решил верховный их совет,
Что, так как нет авторитетов,
Белинский будь авторитет. {36}
Вред, принесенный Белинским, состоит, по подлинным словам г. Лонгинова, "в расположении самодовольных и пустозвонных горланов, думающих заставить человечество забыть все то, что было до появления их на журнальное поприще".
Перл э 2. Статья г. Густава де Молинари о книге Прудона "La guerre et la paix", {"Война и мир". - Ред.} занимающая с лишком два листа и доказывающая непобедимыми доводами, что у Прудона нет ни сведений, ни способности логически мыслить, а есть только ученые эффекты, которые уже устарели и надоели публике.
Перл э 3. Стихотворение князя Вяземского "Заметка", {37} выражающее в самых оригинальных образах самые неожиданные идеи и оканчивающееся двумя классическими куплетами:
Свободен тот один, кто умирил желанья,
Кто светел и душой и помышленьем чист,
Кого не обольстят толпы рукоплесканья,
Кого не уязвит нахальной черни свист.
Нелепым равенством он высших не унизит,
Но, в предназначенной от промысла борьбе
Посредник, он бойцов любовным словом сблизит
И скажет старшему: "Я младший брат тебе".
Хотя "Заметка" князя Вяземского помещена не в критическом отделе и хотя вообще не принято писать критические или полемические статьи в стихах, однако всякий согласится с тем, что отнести эту вещицу к области поэзии нет никакой возможности. В ней нет ни одного образа, и вся разница между этою заметкою и элегическою заметкою, {38} помещенною в той же августовской книжке, в самом конце критического отдела, заключается в том, что первая написана шестистопным ямбом, а вторая - презренною прозою. Смысл и направление их тожественны, выражения одинаковы или по крайней мере сходны; голословность выходок и замашка направлять свои удары в пустое пространство замечаются как в произведении князя Вяземского, так и в элегическом воздыхании редакции "Русского вестника". Поэтому, помещая в число критических перлов стихотворение престарелого поэта, я вместе с тем обращаю внимание читателей на все критические статьи "Русского вестника", в которых веет дух раздраженной солидности, в которых выражается никем не признанное притязание учить общество, становиться во главе его и вести его за собою по пути разумного, умеренного прогресса.
Перл э 4. Статья "Кое-что о прогрессе", в которой свистуны сравниваются с гнилью и в которой в первый раз "Русский вестник" делает мне честь упомянуть об одной моей статье. Он не называет ни меня, ни заглавия моей статьи, ни даже того журнала, в котором я пишу, но он берет из "Схоластики XIX века" одну цитату, {39} которая осталась мне памятна по многим обстоятельствам. Я благодарю "Русский вестник" за его враждебный отзыв о моей статье и об этой цитате; мне приятно видеть, что мои идеи не нравятся московским мыслителям, и я уверен, что многие пишущие люди желают наравне со мною, чтобы "Русский вестник" относился .как можно суровее к ним и к их литературной деятельности.
Пора, давно пора кончить. Надеюсь, что нам не придется больше встречаться с "Русским вестником" на поприще журнальной полемики; мы расходимся так сильно в мнениях и наклонностях, что мы можем прожить целый век, не встречаясь между собою, не пробуя до чего-нибудь договориться и не чувствуя ни малейшего желания сблизиться между собою на каком бы то ни было вопросе.
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые напечатана в журнале "Русское слово", 1862, кн. 1 и 2. В первое издание сочинений не включалась. Здесь воспроизводится по тексту журнала.
Статья "Московские мыслители" тесно связана со "Схоластикой XIX века" и продолжает начатую там борьбу с "Русским вестником" Каткова. В обстановке обострившейся классовой борьбы после "крестьянской реформы" 19 февраля 1861 г. разоблачение реакционной идеологии, проводимой на страницах "Русского вестника", получило особенно острое значение. В лице Каткова революционные демократы имели дело с хитрым и опасным врагом в сфере журналистики. Прикрываясь либеральными фразами о "подлинном", "постепенном и разумном" прогрессе, выдавая свой журнал за орган "солидной мысли" и эксплуатируя сложившийся в 1850-х гг. успех журнала у либерального читателя, Катков в 1861 г. вел на страницах журнала систематичен скую травлю революционных демократов, особенно журнала "Современник" и его руководителей (см. об этом в прим. к статье "Схоластика XIX века"). Катков своими "разоблачениями" подстрекал реакцию к расправе над Чернышевским. "Русский вестник" в ходе развития классовой борьбы в 1861 г., когда либералы, напуганные ростом революционного движения в стране, вступили на путь прямого соглашения с царизмом и крепостниками, становится основным антидемократическим органом печати. В своей статье Писарев разоблачает реакционный смысл "положительной программы" журнала Каткова, осмеивает его бессильные претензии на роль "идейного руководителя" общественного мнения. Отказываясь от полемики с "Русским вестником", Писарев тем самым подчеркивает, что между "Русским вестником" и демократической журналистикой нет и не может быть никаких точек соприкосновения, что это - явления двух миров, двух непримиримых лагерей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: