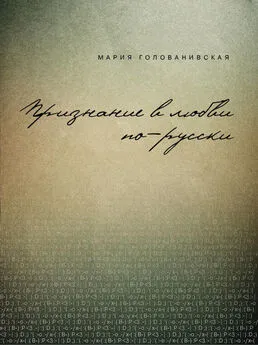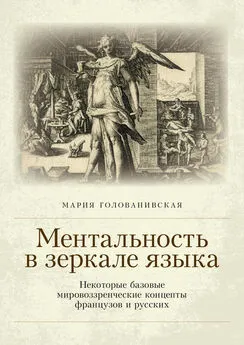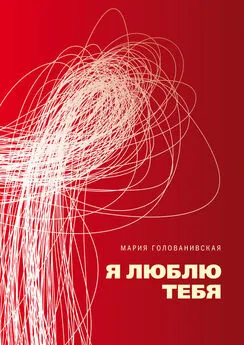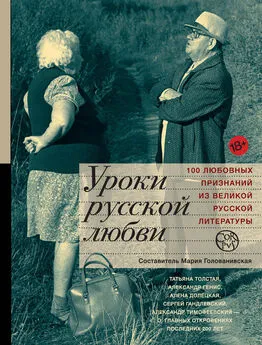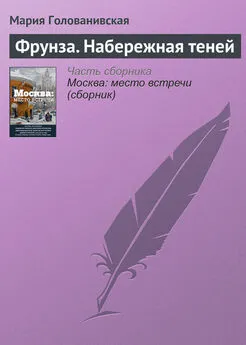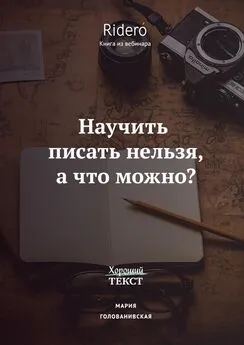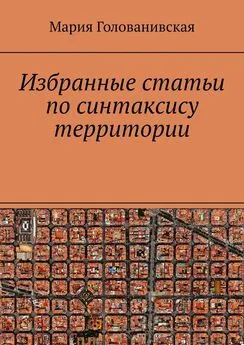Мария Голованивская - Признание в любви: русская традиция
- Название:Признание в любви: русская традиция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Голованивская - Признание в любви: русская традиция краткое содержание
Каждый человек хотя бы раз в жизни признается в любви и хотя бы раз в жизни такое объяснение слышит. Это очень яркий, важный момент, который может изменить судьбу. Осчастливить или заставить страдать. Но почему каждый раз, говоря о любви, мы говорим одно и то же? Почему говорим о своих страданиях, о невозможности жить без того, кого любим, почему пишем письма, читаем стихи? Откуда взялись крылатые выражения любовного признания? Есть ли что-то новое в сегодняшнем любовном объяснении? На все эти волнующие вопросы вы получите исчерпывающие ответы, прочитав новую увлекательную книгу Марии Голованивской. Автор разбирает детали, интерпретирует образы, используя в качестве примера любовные объяснения наиболее известных героев русской литературы – как классической, так и современной.
Признание в любви: русская традиция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И все же…
Русская любовная лирика высока качеством и мощна объемом. Но никакого объективного анализа на ее материале, строго говоря, не сделаешь: стихи нельзя анализировать как текст, раскрывающий аргументацию сторон. Их не принял бы никакой интеллектуальный трибунал. Ведь стихи – это греза, шаманское, заклинание. Авторы их – совсем не такие люди, как мы с вами. А другие, у которых то самое место, где когда-то у предков наших находился третий глаз, еще окончательно не заросло костью.
В моих рассуждениях я буду затрагивать два стихотворных текста: отрывок из «Евгения Онегина», но по жанру, как указал нам его автор, это – роман, и отрывок из лермонтовского «Демона» – потому что там есть диалог, и потому что без него обойтись нельзя.
В русской прозе мне удалось найти ответы на мои вопросы, и вы, читатель, можете согласиться с ними или поспорить. Самое важное – знать и помнить, что прошлое – не прошло, оно живет в нас и, конечно, объединяет. Как и сам русский язык, на котором мы не только говорим, но и объясняемся в любви.Что такое любовь?
Списки мудрецов, разгадывавших этот феномен, огромны и не поддаются никакому цитированию, отчего ни вам, ни мне не легче: никто не знает исчерпывающего ответа на вопрос. Почему два человека неожиданным для себя образом, столкнувшись в аэропорту, на вечеринке у друзей, оказываются неспособными дальше жить друг без друга? Или два человека, которые знали друг друга всю жизнь и вдруг – бац! – как снег на голову, как ураган, как вулкан, море, вышедшее из берегов!
Что с ними случилось?
И вот они вопреки воле родителей, подчас лишаясь расположения окружающих, выгодных перспектив, друзей, родных, возможности видеться с собственными детьми, соединяют свои судьбы. Списки условных Монтекки и Капулетти не уступают спискам мудрецов, разгадывавших тайны природы любви.
Или, наоборот, без всякого «вопреки», а на радость маме. Как говорится, «за что боролись, на то и напоролись». Хотели – и получите.
Не поддается вычислению, прогнозу, управлению.
Зачем, почему? Люди меняют страну, часовой пояс, климат – ради таких же, с биологической тоски зрения, женщин или мужчин, каких буквально пруд пруди вокруг. Таких же?
Чем новая жена или новый муж лучше старых?
Нет ответа.
То есть этот ответ, конечно, придумывается: умнее, надежнее, красивее, моложе, социально перспективнее, но, как мы знаем, этот ответ совершенно здесь ни при чем. Любят не за что-то, принято считать у нас, любят просто так или даже вопреки.
У нас верят в иррациональность любви.
У нас считают, что любовь корыстная по сути своей аморальна.
Я не говорю сейчас о столичных элитах, бесконечно, многократно переосмысливающих прагматику любви: в СССР лучшим спутником считался иностранец или иностранка, поскольку они открывали запертые наглухо границы и облегчали доступ к благам европейской цивилизации. Затем лучшим спутником считался богатый, затем престарелый олигарх. Но это же все не о любви, мы понимаем.
Ученые что-то говорят нам о том, что мы узнаем друг друга по запаху. Считываем при помощи обоняния какие-то коды генной совместимости. И эта совместимость позволяет нам начать созидание новых отношений. Но какова цель этих отношений? Разве только продолжение рода? Совершенно очевидно, что соединение людей в пары было необходимо для выживания, и только частью этого выживания было воспроизводство. Те, кто хорошо адаптирован к выживанию сами по себе, не сложили в рамках своего вида парных сценариев, а оперировали другими множествами.
Но любовь здесь опять оказывается ни при чем. Любовь-то, как мы знаем, «зла – полюбишь и козла»! А какое с «козлом» возможно выживание? Многие народы, для которых выживание актуально по сию пору, не признают в своей культуре браков по любви. Как можно выживать, опираясь на любовь, если она непредсказуема и проходит со временем?
Любовь, зачем она?
Что с ее помощью нужно делать?
Закалять себя, усмирять, мудреть, взрослеть, созидать, разрушать, действовать, бездействовать?
Нет ответа.
Для многих верующих любовь – посланное им искушение.
Для фрейдистов – воскресшее воспоминание, тихой сапой управляющее чувствами человека и его поступками, эдакая выброшенная на берег дохлая рыба: образ матери, отца, сдобренный детской фантазией и переживаниями.
Для материалистов – осознанная необходимость обретения пары, превращающаяся в эмоциональную директиву к действию.
Мой приятель, грузин, давно живущий в Москве, по распоряжению отца спешно вернулся на родину и женился. Ему пришло время жениться, так сказал его отец. Он сел в автомобиль и, понаблюдав за девушками, выходящими из лучших тбилисских вузов, выбрал себе невесту. Женился. Родил детей. Любит ли он свою жену? Безусловно, а как же?
Дочь моих друзей нашла себе жениха по интернету на другом конце света. Они переписывались около года, встретились и оформили брак. Любят ли они друг друга? Еще как!
Но каким образом они сумели полюбить друг друга? Самым обычным: полюбили, и все.
Моя подруга прожила уже полжизни со своим мужем: надежным, умным, порядочным, успешным человеком. Он ее любит, а она его нет. Никак не может полюбить. Уже двадцать лет. Мы всегда спрашивали ее: может быть, ты на самом деле любишь кого-то другого? Все эти годы рыдаешь в подушку, не можешь забыть первой юношеской любви? Нет, признается она, просто не могу его полюбить и все. Терплю ради детей, пускай им будет хорошо, я себя в расчет не беру.
О чем эти три истории? О любви? О людях? О жизни? О судьбе?
Мы все, в массе своей, в совокупности так сказать, по-прежнему обожаем рязановскую «Иронию судьбы», пересматривая ее каждый год 31 декабря. Почему, за что? За то, что этот фильм в точности о том, что мы, многие из нас, считают в жизни главным: любовь – это судьба, это волшебство, это чудесная сила, испытывающая людей на «слабо», проверяющая их на вшивость. Кто может поставить эту абсурдность любви и случая выше здравого смысла – тот наш герой, а кто не умеет – тот, с нашей точки зрения, жалок и обязательно останется с носом.
«Ирония судьбы» – это наша кинематографическая библия любви. В ней все наши стереотипы и все наши заповеди. И главнейшую из них, Любовь, как и Россию – умом не понять.
Любовь и судьба – вещи не связанные, говорят нам одни мудрецы.
Любовь – это своего рода болезнь мозга. Так считал Конфуций и был по-своему прав. Что-то происходит и – вспышка, затмение, бред… Любовь и начинается как болезнь, и проходит иной раз так же внезапно, как началась. Но главное: любовь, как и любая болезнь, не подчиняется воле человека, нельзя заставить себя полюбить, как почти невозможно и заставить себя разлюбить. Это наблюдение легло в основу древней традиции, разделяющей брак и любовь. В каких-то культурах, как мы уже отмечали, женятся по любви, а в каких-то и по сей день – по разумному выбору.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: