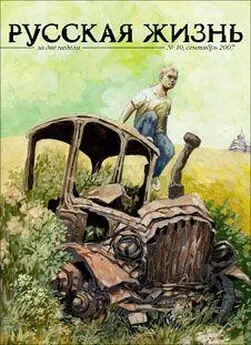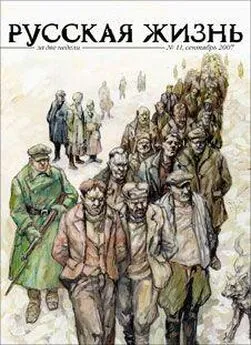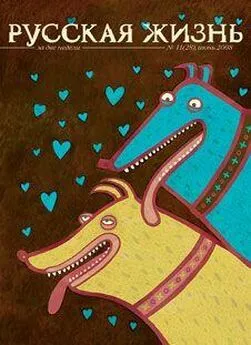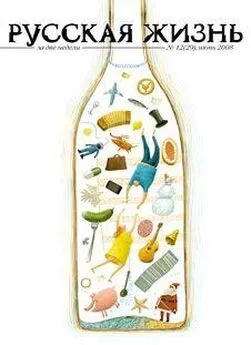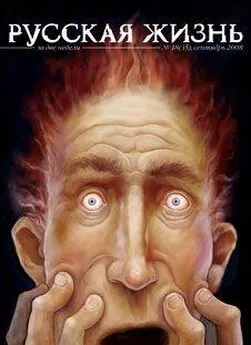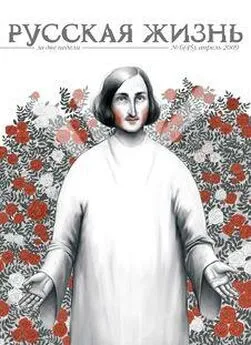Журнал Русская жизнь - Москва (сентябрь 2008)
- Название:Москва (сентябрь 2008)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2008
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал Русская жизнь - Москва (сентябрь 2008) краткое содержание
Содержание:
НАСУЩНОЕ
Драмы
Лирика
Анекдоты
БЫЛОЕ
Белая, палевая, бледно-розовая и дикая
Ярослав Леонтьев - В мир - бах
ДУМЫ
Борис Кагарлицкий - Дорогая моя М.
Олег Кашин - Топонимика мертвого города
Михаил Харитонов - Москаль
ОБРАЗЫ
Юрий Сапрыкин - Сидя на красивом холме
Александр Можаев - Продукты зачатия
Дмитрий Ольшанский - Город-ад и город-сад
Захар Прилепин - Отступать некуда
Дмитрий Данилов - Мои окраины
Максим Семеляк - Воронья слободка
Дмитрий Быков - Московское зияние
Евгения Пищикова - Карамельные штучки
ЛИЦА
Олег Кашин - Две головы
Рог изобилия
Алексей Крижевский - Оно процветает
ВОИНСТВО
Александр Храмчихин - Воевать по-новому
МЕЩАНСТВО
Эдуард Дорожкин - Прогулки урбаниста
Людмила Сырникова - Список благодеяний
ПАЛОМНИЧЕСТВО
Наталья Толстая - Страна тысячи озер
ХУДОЖЕСТВО
Денис Горелов - Маэстро, урежьте марш
Вадим Гаевский, Павел Гершензон - Китч
Аркадий Ипполитов - Бабье лето неоклассики
Москва (сентябрь 2008) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
VII.
Москва - живой город, а топонимика - как для мертвого. Смена общественных формаций, случившаяся в 1917 году, на карте Москвы отразилась в полной мере. Революция 1991 года осталась незамеченной. Да, улицу Чкалова переименовали в Земляной Вал (хотя почему бы не оставить имя Чкалова? Он заслужил улицу в центре), зато на юго-западе Москвы остался (и, подозреваю, остался навсегда) огромный район, все улицы которого названы именами домочадцев Владимира Ленина - вокруг Ленинского проспекта, который, Бог с ним, заслуживает места на карте, остались улицы Крупской, Марии Ульяновой, Фотиевой и даже Дмитрия Ульянова, который не примечателен вообще ничем кроме того, что был младшим братом Ильича. В окрестностях 1-й Тверской-Ямской улицы от славных, но давно ушедших времен расцвета социалистического содружества остался добрый десяток улиц, носящих имена видных деятелей чешской культуры - зачем они там, почему они там? А вождь мозамбикской революции Самор Машела - мы уверены, что он до сих пор заслуживает персональной улицы на юго-западе Москвы? А Иосип Броз Тито - в Белграде нет площади его имени, а в Москве есть. Зачем?
С огромным скрипом (гораздо большим, чем при переименовании Суворовского бульвара в Никитский) переименовали Комсомольскую площадь в площадь Трех вокзалов, а Комсомольский проспект, вероятно, так всегда и будет Комсомольским на радость активистам левых молодежных организаций - при том что названия улиц, из которых он образован, заслуживают того, чтобы вернуться на карту Москвы, очень уж поэтично звучат - Чудовка и Большие Кочки.
VIII.
Среди топонимических проектов начала девяностых был один, может быть, самый забавный - в Моссовете всерьез обсуждалось переименование всех станций московского метрополитена. То есть не только «Дзержинской» в «Лубянку» и «Кировской» в «Чистые пруды», но и, допустим, «Сокола» во «Всехсвятскую», «Пролетарской» в «Крутицкое подворье» и так далее вплоть до совсем абсурдной замены «Аэропорта» на «Аэровокзал». Идея не была реализована из-за какой-то совсем астрономической сметы, но логика авторов проекта была, по крайней мере, понятна - избавиться от всей советской символики, которая заключена не только в «идеологических» именах, но и даже в самых нейтральных вроде того же «Аэропорта», потому что метро «Аэропорт» - это не только сам аэропорт, но и обширнейший советский бэкграунд (о нем применительно именно к этому району в «Русской жизни» подробно писала Елена Веселая), связанный с окрестностями этой станции и не заслуживающий того, чтобы тащить его за собой в десоветизированное будущее.
Такая топонимическая реформа была бы, может быть, излишне радикальной, но, по крайней мере, осмысленной. А то, что стало с картой Москвы в 1990-1993 годах, нельзя назвать ни избавлением от советского прошлого, ни восстановлением исторической справедливости. Просто процесс ради процесса, бессмысленный и беспощадный. Если бы город развивался спокойно и без катаклизмов (неважно каких - демократических или лужковских), мы жили бы в совсем другой Москве - но тут-то уже ничего не исправишь, и омертвевшая московская топонимика, конечно никогда не была и не будет самой животрепещущей из проблем, свойственных этому городу.
Михаил Харитонов
Москаль
Опыт апологии москализма

«Москвич» - это автомобиль. Во всяком случае, был. Дрянной, говорят; не знаю, самому водить не приходилось, владеть - тем более. Так или иначе, в две тыщи шестом завод окончательно обанкротился, и больше «москвичей» не будет. Старье, конечно, еще бегает, можно посмотреть. Но это и все.
Примерно то же можно сказать и о людях. Традиционный тип коренного жителя столицы окончательно обанкротился примерно в те же годы. Больше такого не выпускают, и вряд ли выпустят. Так что имеет смысл… ну, не проливать же слезы, Москва слез не любит и слезам не верит.
Но хотя бы посмотреть, что мы потеряли. Может, потом когда-нибудь пригодится.
Итак, «московский человек», краткий курс. Каким он был и каким он больше, наверное, уже не будет, если не случится чуда.
***
В любом сколько-нибудь уважающем себя государстве есть «главный город». Не обязательно это официальная столица, где сидят «нббольшие начальники». С развитием средств связи появилась даже привычка выносить управленческие дела в какой-нибудь тихий уголок, чтобы их там тихонько обделывать, не раздражая граждан. Правда, довольно часто тихий уголок разрастается. Вашингтон сейчас - не просто столица Америки, но и большой город. Но все равно понятно, что «главные города» - это NY и LA.
«Главный город» обычно играет роль гостиного двора для страны в целом. Это нечто открытое наружу, натоптанное захожим людом и населенное какой-то человеческой сборной солянкой. Как правило, это место, где делают бизнес, что-нибудь выставляют и показывают, проворачивают всякие дела, ну и туристический бизнес, конечно, цветет и пахнет. Как иначе-то.
Само понятие «коренного жителя» относительно города-гостиницы выглядит оксюмороном. В гостинице нет постоянных жителей, это ведь не настоящий дом. В гостиницу ведь именно что наезжают. Немногочисленные же постоянные обитатели такого места довольно быстро приобретают черты и ухватки гостиничной обслуги, довольно-таки неприятные. Но что поделать - в таком месте это единственно возможная форма идентичности.
Россия в этом отношении не сильно отличалась от всяких прочих европ. Санкт-Петербург когда-то был выстроен именно по такой модели: город для всех и не для кого. За это коренные русские люди его не любили, называли «умышленным городом» и призывали не верить Невскому проспекту, - который, впрочем, никакой веры в себя не ждал и не хотел, на сердце не посягал, его интересовали головы и кошельки.
Зато «коренной москвич», в отличие от петербуржца, - который мог быть характерным, типическим, но о корнях ему лучше бы не заикаться, - таки существовал. Он многажды воспет всяческими, условно говоря, Гиляровскими. Впрочем, «дядя Гиляй» просто сохранился в советском культурном космосе, а другие живописатели тех же явлений были по разным причинам забыты (а то и зачищены).
Не соревнуясь с Гиляровским, - что было бы и глупо, из нашего-то времени спорить с очевидцами, - я все же напомню, что это было такое.
В дальнейшем я буду пользоваться словом «москаль». Этот оскорбительный украинизм здесь подходит больше, чем этнографическое «москвич». Хотя бы потому, что москаль остается москалем и вне Москвы. Более того, некоторые характерные черты московского типа сейчас легче сыскать, скажем, в Зауралье. Но пошло все отсюда, с Белокаменной.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: