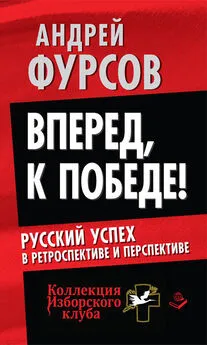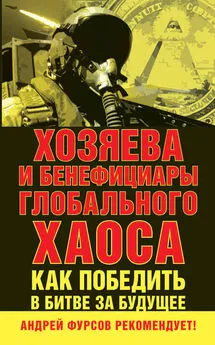Андрей Фурсов - Вперед, к победе
- Название:Вперед, к победе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изборский клуб, Книжный мир
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8041-0643-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Фурсов - Вперед, к победе краткое содержание
Имя Андрея Ильича Фурсова широко известно в научном мире России и за её рубежами — сегодня это, пожалуй, наиболее авторитетный русский историк. А также обществовед и публицист. Автор более 400 публикаций, включая десять монографий. Академик Международной академии наук (International Academy of Science), Инсбрук, Австрия. Директор Центра русских исследований Московского гуманитарного университета, директор Института системно-стратегического анализа, заведующий отделом Азии и Африки ИНИОН РАН, руководитель Центра методологии и информации Института динамического консерватизма.
Еще в 1990-е он предрекал, что вслед за смертью социализма с неизбежностью придет кардинальная трансформация капитализма, однако в итоге этой трансформации возникнет не более гуманный, но более жестокий строй, основанный на иерархии и насилии.
Глубокие знания исторических процессов и событий, неопровержимая логика, незамутненный политической конъюнктурой и идеологическими штампами взгляд делают работы Фурсова уникальными. Они позволяют читателю увидеть Россию и ее место и роль в мировой истории и мировом сообществе, увидеть русскую историю во всем ее величии и полноте, очищенной от пропагандистских наслоений и клише. Позволяют убедиться в отсутствии «черных дыр» и временных «провалов» и понять непрерывность исторических связей и исторической логики русского пути — от Грозного до Сталина и наших дней. Позволяют понять страну и время, в которое нам выпало жить.
Вперед, к победе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Достижению целей петровской опричнины способствовал ещё один мощный фактор, который в начале XVIII века сработал на питерскую версию опричнины так же, как в середине XVI века — на опричнину Ивана IV. Этот фактор — русское сельское хозяйство с его невеликим продуктом, следствием чего является господство экстенсивного типа развития над интенсивным.
Компенсируя слабые возможности интенсификации, развития вглубь, русское хозяйство развивалось вширь — путём экспансии. Это, прежде всего, монастырская колонизация XIV–XV веков, ну а в XVI веке русский человек перевалил за Камень (Урал) и начал осваивать Сибирь. Русофобы квалифицируют русскую экспансию как имперскую, якобы свидетельствующую об агрессивности и политическом экспансионизме России и русских. На самом деле экспансия носила, во-первых, хозяйственный характер; во-вторых, народный (помимо прочего, в XVII веке народ, наиболее активные его элементы побежали сначала от самодержавия, а затем от никонианства). И только в-третьих, можно говорить о политическом характере экспансии, обусловленном прежде всего тем, что власть гналась за растекавшимся народом, бежала за ним, стремясь откристаллизовать эту жидкость, «подморозить» и в таком виде поставить под контроль. Но в основе всего, повторю, специфика русского хозяйства с его малым продуктом. Отсюда — экстенсив, постоянное расширение русского пространства. Закончился в конце XIX века экстенсив, и шарахнули революции начала XX века, а затем возник советский коммунизм — попытка (впервые в таком масштабе в русской истории!) превратить русское экстенсивное развитие в интенсивное.
Во второй половине XVII века в процессе освоения русскими евразийского пространства произошёл качественный скачок, к которому московское самодержавие не было готово и которому оно не было адекватно. Оно не поспевало за стремительно растекавшимся по стремительно расширяющемуся русскому пространству населением, не годилось для выполнения этой задачи. Не только внутренние факторы, но и внешние — территориальный рост, сопровождающийся увеличением внешних угроз, делали его неадекватным новым задачам, задачам новой эпохи. А эпоха эта характеризовалась превращением Московской Руси в то, что Ф. Бродель называл «мир-экономикой», а И. Валлерстайн — мир-системой. В XVII веке Московское царство стремительно превращалось в мир-систему, которая просуществует до середины XIX века и пиком развития которой станет николаевская эпоха. После Крымской войны Россия станет превращаться в элемент мировой системы, однако сталинский национал-большевизм вырвет её оттуда и превратит в мировую антикапиталистическую систему, пиком развития которой станет брежневская эпоха.
Ключевский называет третий период русской истории великорусским, датируя его серединой XV — началом XVII века (я бы прибавил полстолетия). Главной чертой этого периода историк считал растекание главной массы русского населения из верхневолжской области на юг и восток по донскому чернозёму. Н.П. Огановский именует этот период московским, доводит его с середины XV до конца XVII века (я бы убавил полстолетия) и подчёркивает колонизацию Поволжья и Прикамья. По сути, оба историка говорят о стремительном растекании русского населения во все концы — власть не поспевала за ним. «Текучий элемент русской истории» — так характеризовал русский народ Ключевский. Власть, иными словами, не поспевала за мир-системой, она была патриархально-московской, а нужна была российская, «мир-системная» («имперская»).
Более того, с 1620-х годов, считает Ключевский, начался новый период русской истории — всероссийский, продлившийся до середины XIX века. Н.П. Огановский называет этот период имперско-дворянским, правда, связывает его не с XVII, а с XVIII — серединой XIX века. Оба историка говорят о втором колонизационном поясе (Новороссия, Нижнее Поволжье), о распространении русского народа по всей равнине от Балтийского и Белого моря до Чёрного и Каспийского, о проникновении за Камень (Урал) и Каспий, о присоединении к России Малороссии, Белоруссии, а в XVIII веке — Новороссии. Середина XVII века — (восстановление самодержавия приходится на переход от великорусского (московского) периода аграрно-исторического развития русского народа к всероссийскому (имперскидворянскому; «мир-системному»). Народ и хозяйство совершили этот переход, а московское самодержавие — нет, не смогло, потому что было «заточено» под предыдущий период, решало и решило в тяжелейших условиях его задачи. А затем — пятьдесят лет пробуксовки.
Т. е. «пространственно», количественно русское пространство и русский продукт увеличились (без качественного увеличения последнего), а власть и её формы остались прежними, что, помимо логики развития крепостничества, ещё более обостряло необходимость передела «вещественной субстанции» (при том, что она вовсе не была истощена, исчерпана) в пользу верхов, способных по-новому организовать, темпорализовать расширившееся пространство. А это, в свою очередь, требовало чрезвычайного, опричного создания для этого новых органов и слоёв. Иными словами, упрощая, можно сказать, что питерская опричнина была ответом на вызов пространства, а грозненские — на вызов времени, и это многое, хотя и не всё, объясняет в них.
С учётом опыта питерского типа опричнины становится ясно, что не стоит испытывать иллюзий по поводу опричнины вообще: смотря какая опричнина — грозненская или питерская. Впрочем, не стоит питать иллюзий и по поводу грозненских опричнин. Начать с того, что в рядах опричнины немало тех, кому любо насилие, кто использует её в своих целях, а то и просто «биологических подонков человечества», и чем менее здорово общество, тем в большей степени. У опричнины, по крайней мере, у её части, пусть небольшой, всегда есть соблазн и риск превратиться в «эскадроны смерти» — и вот эту часть надо отстреливать, как бешеных собак.
Будучи крайним средством, опричнина использует крайние меры и крайних людей, и чем тяжелее общественная ситуация, которую должна скорректировать опричнина, тем острее край. С учётом этого, забегая вперёд, можно предположить, что неоопричнина XXI века, если она возникнет, будет самым горьким лекарством, расплатой за беспредел постсоветского периода, и ударит она, как это всегда бывает в истории, не только по виноватым. Заменяя в фразе Мартина Лютера слово «истина» на слово «опричнина», можно сказать: «дух «опричнины» болезнетворен. Ибо «опричнина» не лестна. И он повергает в болезнь не просто того или иного человека, но весь мир. И уж такова наша мудрость, чтобы всё озлить, онедужить, осложнить, а не оберечь, опосредовать и оправдать». Опричнина — болезненное, смертельное средство лечения смертельной болезни. Но спрашивать нужно не с опричников, они сами — боль, а с тех, кто запустил болезнь или даже культивировал её.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: