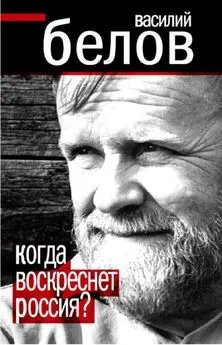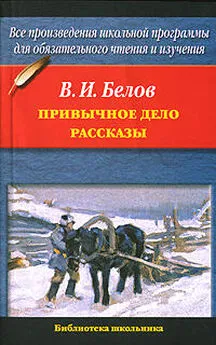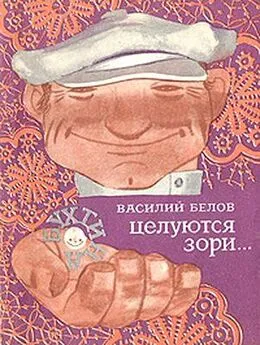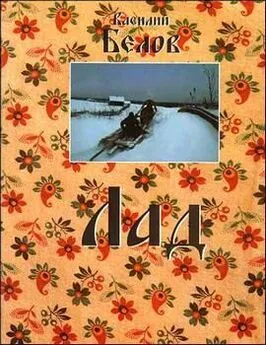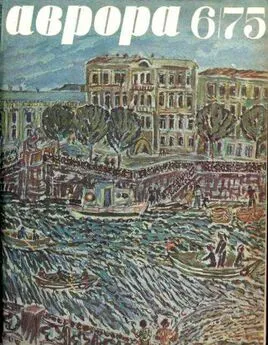Василий Белов - Когда воскреснет Россия?
- Название:Когда воскреснет Россия?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0276-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Белов - Когда воскреснет Россия? краткое содержание
Классик российской литературы Василий Иванович Белов (1932–2012), как истинно русский писатель, всегда остро откликался на события, происходящие в стране. Свое отношение к тому, что случилось в нашем обществе после перестройки, он высказал в публицистике. Хлесткая и горькая, она пронизана болью за судьбу разграбленной и истерзанной Родины, погибшей русской деревни, раздробленного русского народа, который лишили национальной и духовной цельности и самобытности. Предостерегая от опасности иллюзорной надежды на «перерождение» власти, Белов верил в возрождение нашего государства, в то, что русский народ наконец проснется от своей спячки. Читая публицистику писателя, интервью и беседы с ним, понимаешь, насколько актуально и прозорливо его слово, с течением времени не только не теряя своей силы, а становясь все более значимым для национального самосознания.
Когда воскреснет Россия? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Музыку вполне уместно сопоставить с поэзией и живописью. Даже термины у них одинаковые. Создатели национальной поэзии и музыки подобны творцам живописи, и тех, и других, и третьих не напрасно кличут художниками.
Художник-поэт, художник-живописец, художник-композитор. Все трое художники, все трое творцы, создатели новых образов! Великая национальная культура как раз и складывается из таких образов, будь то поэзия (литература), живопись вкупе с графикой, музыка с ее жанровым многообразием.
Да, разумеется, народная, вернее, государственная, то есть национальная, культура и цементируется художественными образами! Для того чтобы представить цельность национальной культуры того или иного народа, достаточно вспомнить творцов хотя бы недавнего прошлого, хотя бы такой страны, как Франция, в музыке, в литературе, в живописи. Если говорить о России, то возникают немедленно такие имена, как Александр Пушкин, Модест Мусоргский, Федор Шаляпин, Алексей Саврасов, Михаил Лермонтов, Иван Гончаров, Георгий Свиридов, Сергей Прокофьев, Сергей Рахманинов…
Увы, время не останавливается и не возвращается вспять. Вернуть человека из небытия может только художественный образ, например слово и музыка.
Музыка возвращает людям ощущение прошлого, способна даже создать образ человека живого, его личности, состояние его души, ума, почти реального, почти ощутимого физически. Кинематографу, на наш взгляд, не под силу такая способность, не под силу и живописи, несмотря на все их способности воплощать образы отдельных людей, отдельных личностей. Испокон существует в человечестве и нехудожественная, то есть научная, логика.
Может, в осознании всего этого и состоят национальные свойства всех русских талантов. И литературных, и живописных, и религиозных, и научных…
Народы и племена мира родили великое множество творцов. Разобрать, кто есть кто по рангу, дано не каждому. Перепутать художников и творцов можно и не по умыслу, то есть случайно. Но особенно вредят национальной и общемировой культуре те, кто делает это намеренно…
Судьбу музыканта Гаврилина можно сравнить с судьбой поэта Рубцова. Валерий Гаврилин и Николай Рубцов — оба плоть от плоти русской национальной культуры. Оба они соразмерны по таланту, сходство их личных судеб очевидно, и оно просто потрясает. Трагична была их жизнь и смерть. Эта трагичность их жизни и смерти начиналась с несчастий их родителей. Отцы, породившие замечательного поэта и замечательного музыканта, безвременно умерли. С отцом Гаврилина это случилось в самом начале жестокой схватки с врагом… Социальные потрясения, последовавшие за этой схваткой, общеизвестны. А матери? Судьба матерей обусловлена тоже как раз войнами — Гражданской и Отечественной. Но и не только… Гаврилинская родительница еще в 20-х годах в полной мере испытала последствия Гражданской войны.
Почему так много бед навалилось на Россию? Тут и Первая мировая, Гражданская, тут и всевозможные революции, тут сплошь война за войной. И за все это расплачиваются обычно женщины… А дети вырастают с талантами. Становятся музыкантами и поэтами. Но проходят годы, умирают и дети, увы, раньше времени…
Россия, Русь, куда я ни взгляну…
За все твои страдания и битвы
Люблю твою, Россия, старину,
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шепот ив у омутной воды…
Исчезает ли русский великий народ? Даже ставить этот вопрос боязно! Господь не разрешает задаваться такими вопросами нам, слабым и грешным, оставим эти рассуждения православным святым. Впрочем, без личного опыта никак не обойтись. Однажды на литургии в Андреевском соборе Вологды попробовал и я петь «Верую» — символ веры. И хотя отец дьякон дирижировал довольно сносно и большинство присутствующих пели молитву, лично у меня почему-то ничего не получилось. Почему? Меня поразило это происшествие. В чем дело? Неужели я такой бездарный и лишен музыкального слуха? Душа моя смутилась, я начал вспоминать, как обстояло с музыкой в моей жизни. Припомнил время далекого детства.
Мать с трудом, но приобрела старенькую гармонь в деревне Дружинине. Я быстро освоил ее. Бывало, Анфиса Ивановна еще обряжается, топит утреннюю печь, а я уже играю и сам пою «Буря мглою небо кроет». Научился играть и под деревенскую пляску, что обернулось для пятнадцатилетнего школьника многими неприятностями.
Приходилось часами играть на комарах, причем одно и то же. Дома-то я мог подбирать и «Катюшу», и «По военной дороге», и другие песни, услышанные в детском садике с патефона. Помню, как прекрасно пели женщины на пивных праздниках старые песни. Дух захватывало. Я их, этих женщин, давно умерших, и сейчас вижу, как живых, могу назвать их имена и фамилии. Они имелись в каждой деревне, а деревень-то было семь в одном нашем колхозе. Но ведь в пивные праздники люди ходили в гости за десять-пятнадцать верст. Ходили и пели, несмотря на войну, голод и гибель родных людей на фронтах…
Хорошо помню: любил играть и на гармошке, и на балалайке. Когда уехал в ФЗО и попал на станцию Вохтога, сразу же начал учить ноты, играя в самодеятельном оркестре на домре. Научился играть «Во поле березонька», «Эй, ухнем!» и еще что-то. Не доучился, ноты не освоил как следует. Уехал в Ярославль, так как в Вохтоге не было вечерней школы, где можно было получить наконец аттестат зрелости, чтобы поступить в институт…
Еще помнится, как брат Юрий, служивший срочную танкистом, прислал нам в Тимониху ламповый батарейный приемник. Мы всей семьей и с соседями слушали настоящее радио. (Не то что мое, детекторное.) Слушали и Русланову, и Лемешева, и Шаляпина.
В 1948 году поступал я в Вологодское музучилище. Дежурный преподаватель на стук проверил мой слух, заставил голосом включаться в звучание рояля. Он сказал, что слух у меня есть. Я, счастливый, уехал на станцию Пундугу, чтобы дома, в деревне, нетерпеливо ждать приемных экзаменов. Увы, на приемных экзаменах я провалился. (Или меня провалили?) Перед целым синклитом в 20–25 человек меня попросили спеть. Но что мог спеть пятнадцатилетний мальчишка, да еще перед такой аудиторией?
Они решили, что я не гожусь для училища. Не помню, как я приехал на станцию Пундугу, как пешком еще раз протопал 45 километров. Я разрыдался, когда мать открыла мне ворота отцовского дома. (Самого отца в живых уже не было, он лежал в Смоленской земле.)
Теперь, спустя много лет, я уже не рыдаю, как тогда. Лишь недавно я понял, почему не мог петь молитву в Андреевском храме. Понял после чтения книги В.И. Мартынова «Пение, игра и молитва». Автор, полемизируя с Иакимом Кореневым, пишет: «В процессе молитвы сознание должно превратиться в чистый белый лист, на котором Бог смог бы начертать знаки своего присутствия, преображающие обыденное сознание в сознание обожженное. Для того чтобы воспринять эти божественные знаки, сознание должно освободиться от всех образов и представлений, от всего умодосягаемого…» Автор книги определенно и жестко отделяет песню, считая ее игрой, от молитвы, приводящей к совсем иному общению. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей», — цитирует он Иоанна Богослова. Одно дело игра (песня), иное дело молитва. Лишь с этих позиций надо подходить к пению и русскому мелосу, безжалостно разрушаемому всеми, кому не лень. Разницу эту я интуитивно почуял очень давно, но осмыслил ее совсем недавно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: