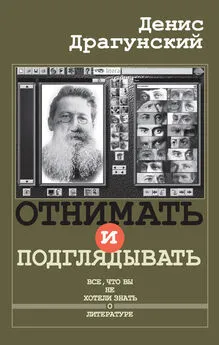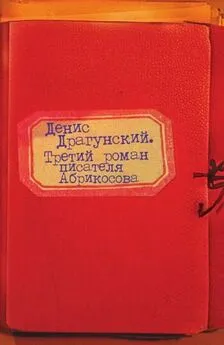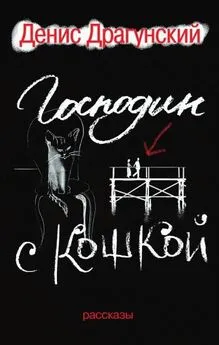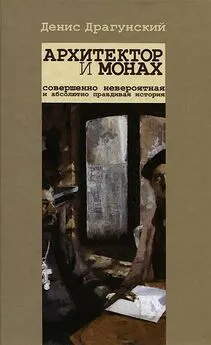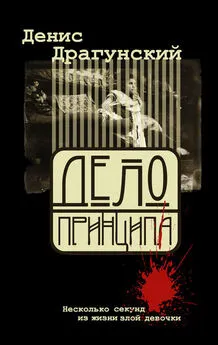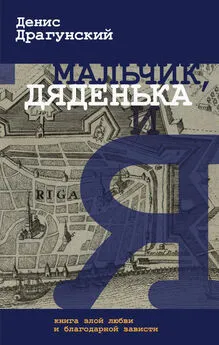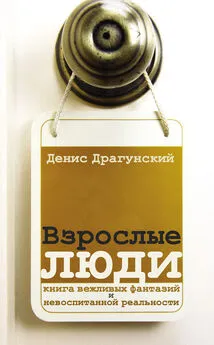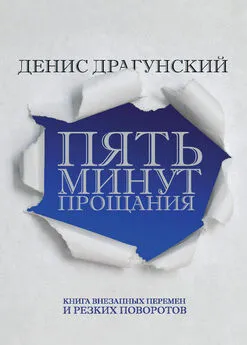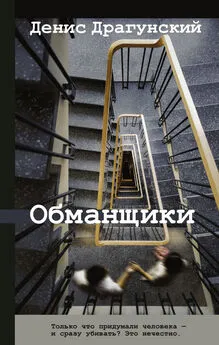Денис Драгунский - Отнимать и подглядывать
- Название:Отнимать и подглядывать
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-087015-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Денис Драгунский - Отнимать и подглядывать краткое содержание
Мастер короткого рассказа Денис Драгунский издал уже более десяти книг: «Нет такого слова», «Ночник», «Архитектор и монах», «Третий роман писателя Абрикосова», «Господин с кошкой», «Взрослые люди», «Окна во двор» и др.
Новая книга Дениса Драгунского «Отнимать и подглядывать» – это размышления о тексте и контексте, о том, «из какого сора» растет словесность, что литература – это не только романы и повести, стихи и поэмы, но вражда и дружба, цензура и критика, встречи и разрывы, доносы и тюрьмы.
Здесь рассказывается о том, что порой знать не хочется. Но – надо. Пригодится.
Отнимать и подглядывать - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но это домыслы на грани вымысла. Возраст мальчиков точно не известен – но ясно, что они еще не ходят в школу. У них не имена, а прозвища. А у мамы и папы тоже нет имен (правда, у папы есть фамилия – товарищ Серегин). Почему? Но не потому, что при тоталитаризме все люди обезличены. Это было бы слишком просто и, как ни странно, «протестно». А потому что всё происходящее в этом рассказе – и в этой огромной счастливой советской стране – воспринимается с точки зрения дошкольника. Есть Мама и Папа. Синие горы. Начальники и враги.
Взгляд веселого ребенка. Это именно тот взгляд на мир, который более всего устраивает начальников.
Поразительно бессодержательная рецензия Шкловского на «Чука и Гека»: «У Гайдара появился новый голос и новое литературное умение. Он как-то более лирически понял жизнь». Еще более лирически, чем в «Голубой чашке», которая заканчивается знаменитой фразой про жизнь, которая, товарищи, была совсем хорошая. Советским начальникам нравилась именно такая лирика.
Некоторые гайдарофилы обращают внимание вот на какую фразу из «Чука и Гека»: «Кругом стояла тишина, как зимой на кладбище». Вот, дескать, Аркадий Гайдар тайком подпустил свое истинное отношение к итогам Большого Террора. Но не надо преувеличивать. Здесь нет никакого выплеска гражданской скорби. Это всего лишь образ, родившийся в голове горожанина. Сельский житель сказал бы – как зимой в лесу.
Вот, кстати, еще один пассаж. Мать узнала, что Чук и Гек потеряли телеграмму, и рассердилась. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» Смеяться после слова «каторга». Мне кажется, что в 1938 году это звучит несколько бестактно. В контексте сложного времени, которое переживала страна.
Зачем Гайдар это написал, даже интересно.
Зачем он показал 1938 год глазами веселого и благополучного шестилетнего дитяти?
Это не просто детский рассказ. О детях и для детей, и отстаньте. Так писали Хармс и Введенский. Известна их судьба. У Гайдара в конце – политическое поучение. Кажется, что весь рассказ написан ради этого. Ради той фразы, которую стыдливо урезал автор сегодняшней аннотации.
Т. А. Гайдар пишет: «В этом рассказе, в разговорах его взрослых и маленьких героев, в раскрывающейся перед читателями панораме нашей огромной страны Аркадий Гайдар отстаивает свой оптимизм свою непреклонную веру в правоту ленинского дела, которое все равно одолеет любые беды и трудности».
Гайдар создавал миф о счастливой советской стране. Намеренно и цинично? Трусливо и осмотрительно? Или сам верил в то, о чем писал? Или не различал границы между правдой и мифом?
Неважно. Важно понимать, что прелестная сказка про Чука и Гека – это всего лишь одна из моделей лживого советского мифа. Который имеет неожиданные распаковки в настоящем. В виде цинизма, трусости и полного социального равнодушия.
Говорят, время такое было. Такие тогда были люди, такое у них было воспитание, миропонимание.
Но не у всех есть такое право – ссылаться на время. А также на воспитание и миропонимание.
Когда престарелый большевицкий каратель говорит, что «он верил в партию» и что «время такое было», надо его спросить: сколько он пожалел священников, которые верили в Бога? Крепких крестьян-хозяев, которые нанимали работников, потому что время такое было? Белых офицеров, потому что они давали присягу? Часто ли он, заседая в составе чрезвычайной тройки, рассматривал воспитание и миропонимание обвиняемых? Что, дескать, они – дети своего времени? Что они в свое время делали для страны всё, что должны были сделать (воевали с Японией и Германией, вешали эсеровских бомбистов), и что поэтому «мы их судить не вправе».
Не было такого. Судили по всей жестокости террористического беззакония.
Поэтому не надо про время и особенности менталитета.
Гайдар не пытается понять или, пуще того, оправдать своих, так сказать, отрицательных героев. Да у него, собственно, таких героев и нет. В смысле – в его книгах нет людей, думающих и живущих иначе, чем велено думать и жить. Есть маски, картонные фигуры злодеев в «Школе» или «Судьбе барабанщика». Или вообще условные обозначения: буржуины, плохиши, шпионы и диверсанты. Наконец, просто «враги», как в рассказе про Чука и Гека.
«Никаких компромиссов, пониманий и примирений с буржуинами, шпионами, вредителями и просто врагами!» – учил нас Гайдар своими красивыми книгами.
Поэтому – никаких компромиссов с Гайдаром.
Время и место Юрия Трифонова
В декабрьском номере «Нового мира» за 1969 год была напечатана повесть Юрия Трифонова «Обмен». Это был не просто блестящий литературный текст, но и важнейший идейный рубеж. Трифонов обозначил собою – точнее, последним периодом своего творчества – эпоху 1970-х. Начал и завершил эпоху мощную, странную и до сих пор очень влиятельную в общественном сознании. Над шестидесятниками смеются, 1970-е годы вспоминают с всё большей и большей ностальгией; само слово «застой» уже считается некорректным – предпочитают говорить об апогее и апофеозе советской истории.
Трифонов уместился в 1970-е, как перстень в футляр. Семидесятые начались 20 августа 1968 года, закончились 10 декабря 1982 года. «Обмен» был напечатан через полтора года после подавления Пражской весны. Автор скончался за полтора года до смерти Брежнева. Далее была быстрая смена дряхлых генсеков, перестройка, распад СССР – и, главное, распад той идейно-художественной парадигмы, которая казалась Трифонову незыблемой – и в укрепление которой он внес весьма значительный вклад.
Помню потрясающее впечатление, которое произвел на меня «Обмен», – более сильное, чем «Мастер и Маргарита» (журнал «Москва», 1966–1967). Гораздо более сильное, чем великолепный триптих преобразившегося Валентина Катаева (как тогда говорили, молодого Катаева) – «Святой колодец» (1965), «Трава забвенья» (1967) и «Кубик» (1968). Деревенскую прозу я тогда почти не читал. Вернее, проглядывал, но эти авторы мне совсем не нравились. Ибо я их воспринимал – наверное, не совсем справедливо – как реакционеров. Потому что в полемике «Нового мира» с «Октябрем» и «Огоньком» я был, естественно, на стороне Твардовского, а не Кочетова и Софронова.
Однако я уже прочитал напечатанный на папиросной бумаге роман Солженицына «В круге первом». Конечно, я был поражен мощью и масштабом этой книги, а в особенности той жуткой действительностью, которая открылась мне. И конечно, раньше я читал «Один день Ивана Денисовича» и «Правую кисть» (тоже в самиздате).
Трифонов не только выдержал это сравнение – с Булгаковым, Катаевым и Солженицыным. Он легко их победил – в моей душе, разумеется. И, полагаю, в душах огромного большинства интеллигентных советских горожан, не задетых обеими ветвями диссидентства, демократической и националистической.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: