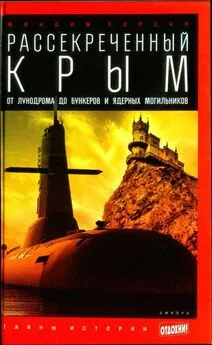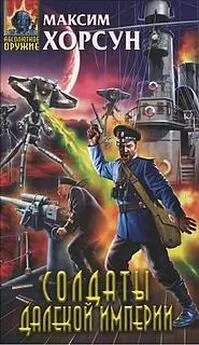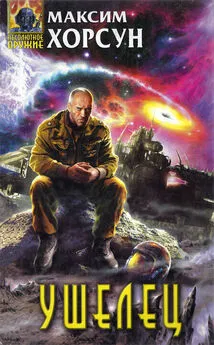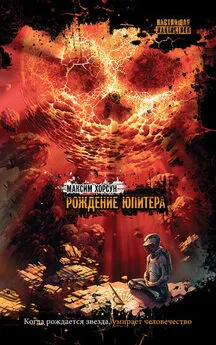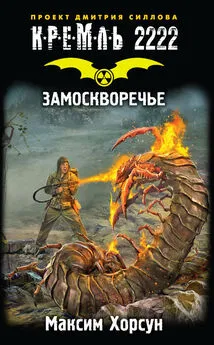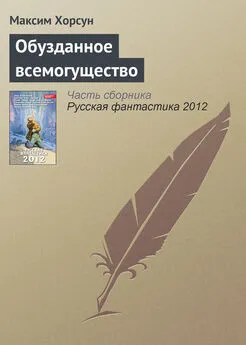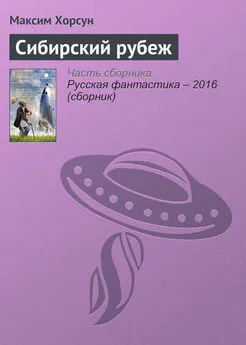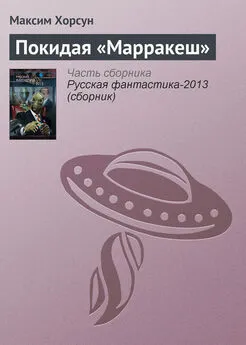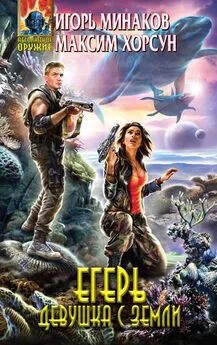Максим Хорсун - Рассекреченный Крым: От лунодрома до бункеров и ядерных могильников
- Название:Рассекреченный Крым: От лунодрома до бункеров и ядерных могильников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:2014
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-367-03198-0,978-5-367-02793-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Максим Хорсун - Рассекреченный Крым: От лунодрома до бункеров и ядерных могильников краткое содержание
Расположенный когда-то на границе СССР Крым являлся территорией, где были сосредоточены многочисленные сверхсекретные объекты, о которых не рекомендовалось говорить вслух. Книга рассказывает, как они возникли и что с ними стало теперь.
Таинственные бункеры, антенны, подземелья и башни — в Крыму можно найти множество заброшенных объектов военного и научного назначения. Здесь ковали ядерный щит державы, отсюда управляли луноходами и космическими аппаратами, запущенными к Марсу и Венере. В этой книге предлагается пройти по следам, оставленным в Крыму советской империей, и открыть неизвестные страницы истории полуострова.
Рассекреченный Крым: От лунодрома до бункеров и ядерных могильников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В будущем, конечно, этим людям был гарантирован букет всяких болезней, да и срок жизни существенно сокращался. Трагедия заключалась в том, что большинство из них в силу чрезвычайной режимности работы не имело никаких документов, подтверждающих получение высоких доз облучения. Дозиметрические журналы были засекречены, а появившихся позднее в Министерстве обороны секретных дозиметрических вкладышей в удостоверения личности у них не было: они ведь работали в Министерстве среднего машиностроения!
Опасные и технологически несовершенные постоянно действующие нейтронные источники в начале 1960-х годов начали заменяться импульсными источниками нейтронного излучения, лишенными большинства недостатков своих предшественников.
Вспоминает М. И. Изюмов:
Пришлось нам участвовать и в разборке двух «изделий» РДС-3, снятых с эксплуатации по сроку службы. Активные компоненты центральных частей зарядов превратились в порошок, и действия по их удалению приходилось выполнять с тройной осторожностью.
Зато урановые полушария были как новенькие, и ответственный хранитель с удовольствием демонстрировал нам эффектный сноп искр, получавшийся при легком чирканье по поверхности стальным ключиком. Правда, после этого фокуса наш старший инженер по технике безопасности капитан 3 ранга Юрий Михайлович Одинцов, впоследствии главный инженер объекта, заставил провести тщательную дезактивацию пола хранилища, куда сыпались искры необычного «фейерверка». Все металлические детали были аккуратно упакованы и отправлены спецэшелоном на один из уральских заводов, где их еще более эффектно расплавили в открытых металлических электропечах. Редкая удача видеть это сказочное зрелище выпала на мою долю. Все детали из делящихся материалов на этом заводе принимали в соответствии с их формулярами, то есть взвешивание проводилось на специальных аналитических весах трижды — с точностью до десятитысячных долей грамма. Ни у кого из офицеров никогда даже мысли о хищении этих материалов не могло возникнуть!
Впрочем, есть свидетельство еще одного ветерана Феодосии-13 — Сергея Дмитриевича Никифорова — о том, как поступали с отслужившими свой срок боеприпасами:
Извлеченные ядерные заряды мы отправляли для переработки на заводы, а все остальное оборудование разукомплектовывали, пускали под пресс или использовали здесь. Алюминию быстро нашлось применение в других работах, а медь долго валялась, пока к одному из праздников не решили соорудить памятник Ленину. Для этого мы и использовали все медные детали, латунь и бронзу от разобранных бомб. Пустили все это в переплавку — здесь же, на территории гарнизона, в наших печах. При ремонтно-механической мастерской был литейный участок, и мы могли сами сделать такой памятник. Но наши печи вмещали только 50 кг расплавленного металла, а барельеф весит килограммов, наверное, под 200–300. Поэтому он отливался из той «атомной» меди по частям. Нам помогли в Симферополе — изготовили секционные литейные формы, и каждая из частей барельефа имела вес, не превышавший 50 кг.
Сейчас, чтобы памятник снести, надо сначала разобрать всю стелу, на которой закреплен барельеф. Искоренить только лишь барельеф не удалось — возились очень долго, да, кажется, что уже шевелится где-то, молотком били… но, как видно, стела очень прочная, ее кладка сделана на лучшем цементе, а тогда цемента мы не жалели — в те годы, в советские времена, особенно для такой работы. Цемент брали хорошего качества, как следует готовили раствор и клали — на века, поэтому и кладку никак не разобрать — ее только взрывом теперь возьмешь… похоже, атомным, не иначе.
Вся работа на объекте, начиная с занятий в учебных центрах, была организована в соответствии с профилем специалистов-оружейников. Сборка центральной части ядерного заряда являлась наиболее ответственной и наиболее секретной специализацией, поэтому эту работу выполняли только специалисты — «цечисты». Автоматика, обеспечивающая подрыв заряда, являлась специализацией другой группы офицеров. Сборка и настройка барометрических или гидродинамических датчиков команды на подрыв — специализация третьей группы. А механические операции сборки корпуса «изделия» — специализация четвертой группы сборщиков. Это разделение позволяло снизить риск утечки секретной информации, поскольку никто не имел полных сведений о конструкции «изделия». Вспоминает М. И. Изюмов:
Иногда жены задавали нам вопросы о том, чем мы занимаемся на работе. Каждый фантазировал, как умел, но все версии коллективно обсуждались женщинами в наше отсутствие, после чего следовали новые вопросы с добавлением фразы: «И не считай меня полной дурой!» Спросили совета у курировавшего нашу работу начальника особого отдела КГБ полковника госбезопасности Ивана Васильевича Рогова. Как-то в воскресенье он собрал всех офицерских жен в Доме офицеров. Вход мужьям на это «совещание» был запрещен, поэтому мы не знаем, что говорил нашим женам полковник Рогов. Однако с тех пор — вот уже больше пятидесяти лет — жены вопросов о службе нам не задают!
М. И. Изюмов вспоминает лишь один конфликт, который возник в несколько неожиданной сфере. В объектовом госпитале работала молодая врач-гинеколог. Все женщины Феодосии-13 были ею очень довольны, но в один прекрасный день врач покинула Кизилташское урочище в связи с переводом ее мужа-офицера на другой объект. Как назло, у многих жительниц военного городка вдруг возникла надобность именно в медицинской помощи такого рода. Все, что мог сделать командир части, это раз за разом отправлять служебную автомашину в Симферополь вместе с нуждающейся в осмотре. Для каждой необходимо было выписать пропуск на выезд и еще послать офицера, ответственного за автотранспорт, а также за безопасность и возвращение дам домой. И этого офицера надо было проинструктировать, чтобы никакие слезные просьбы заехать ненадолго в магазин или на рынок категорически не выполнялись, иначе…
Если же у мужа больной был собственный автомобиль, то офицер отпрашивался со службы, чтобы лично доставить супругу к врачу, а это иногда оказывалось просто невозможно. Словом, командиру пришлось выкручиваться. Наконец, после его настоятельных требований на объект прибыл гинеколог — капитан медицинской службы Георгий Артемович Саятнов, родом из Тбилиси, служивший ранее на Курильских островах. Неженатый, с усиками и обаятельной улыбкой. Среди офицерских жен поднялась паника, и коллективным решением было: «К нему не пойдем!» Женская делегация вновь отправилась к командиру с требованием отправить их в Симферополь. Командир ответил спокойно, мол, выезда из зоны к гинекологу не будет, свой есть в госпитале. Дамы — к хирургу. Хирург Майя Васильевна Ларина была женщиной строгой, высокой, курящей. На объекте она вырезала больше полутора сотен аппендиксов — от жесткой воды они часто воспалялись. Женщин выслушала, в помощи не по своей специальности отказала. Дамы попробовали давить на мужей — те ни в какую. Против командира, сказали, мы никак! А доктор Саятнов уже неделю сидел в пустом чистом кабинете. Наконец, самой отважной оказалась Татьяна Александровна Ершова — директор объектовой средней школы. Провожали ее как Орлеанскую деву на костер. Толпа дам ждала на перекрестке у госпиталя. Татьяна вернулась со словами: «Бабы, врач замечательный, деликатный и опытный! Вперед!» На этом конфликт был исчерпан. А доктора Саятнова, ставшего кумиром женщин объекта, после увольнения с военной службы назначили руководителем огромной гинекологической клиники Ленинградского педиатрического медицинского института.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: