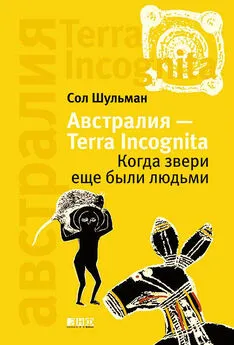Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности
- Название:The Irony Tower. Советские художники во времена гласности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-162-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эндрю Соломон - The Irony Tower. Советские художники во времена гласности краткое содержание
История неофициального русского искусства последней четверти XX века, рассказанная очевидцем событий. Приехав с журналистским заданием на первый аукцион «Сотбис» в СССР в 1988 году, Эндрю Соломон, не зная ни русского языка, ни особенностей позднесоветской жизни, оказывается сначала в сквоте в Фурманном переулке, а затем в гуще художественной жизни двух столиц: нелегальные вернисажи в мастерских и на пустырях, запрещенные концерты групп «Среднерусская возвышенность» и «Кино», «поездки за город» Андрея Монастырского и первые выставки отечественных звезд арт-андеграунда на Западе, круг Ильи Кабакова и «Новые художники». Как добросовестный исследователь, Соломон пытается описать и объяснить зашифрованное для внешнего взгляда советское неофициальное искусство, попутно рассказывая увлекательную историю культурного взрыва эпохи перестройки и описывая людей, оказавшихся в его эпицентре.
The Irony Tower. Советские художники во времена гласности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А ты приедешь?» – «Ну конечно».
Да и сами советские художники уже не выглядели на Западе чужеродными, они больше не нуждались в культурном переводе. Когда я приехал в Прато, Сергей Волков рассказал мне, как добраться автобусом до Флоренции, где покупают билеты на автобус, где надо есть и что будет происходить в ближайшие несколько дней. «Та женщина, о которой ты говорил, что она куратор, она на самом деле секретарша», – объяснил мне Костя. Копыстянские поведали, что нашли новую квартиру в Нью-Йорке, и пригласили меня на обед, когда я в следующий раз буду там проездом. Вадим Захаров подружился с одним итальянским рабочим из музея, который не говорил ни по-русски, ни по-английски, и пытался объяснить ему смысл своей работы жестами, при этом оба хохотали.
Открытие выставки в Прато, быть может лучшей групповой выставки той зимы, пришлось на субботу. Куратором выставки была Клаудия Йоллес. Выставка оказалась немного бестолковой, но там были показаны очень хорошие работы очень хороших художников. Каждому был предоставлен целый зал: там были Булатов, Волков, Захаров, Кабаков, Игорь и Света Копыстянские, «Медгерменевтика», «Перцы» и Костя Звездочетов. Инсталляция Волкова – открытые металлические полки, где стояли самых разных размеров банки для консервирования, в них в консервирующем растворе плавали предметы уходящего советского общества: бюсты Ленина, матрешки, полусгоревшие церковные свечи, – эта работа отдавала горькую дань памяти миру, который все они оставили за плечами, миру, который исчезал на глазах. Возможно, это была лучшая из новых работ, многие привезли в Прато старые вещи. Булатов выставил в Прато работы, сделанные еще в Москве, Копыстянские – работы из Нью-Йорка. Инсталляция Кабакова, сделанная в том же ключе, что и его предыдущие работы, многим молодым художникам не понравилась, они заявили, что это «музейное искусство», повторение «успешного официального художника Кабакова», но это было сказано под влиянием эмоций. За три дня до открытия выставки Горбачев заявил о возможности введения многопартийной системы, и Кабаков решил перекрасить унылые серые стены своего зала в более светлый цвет. Это было напоминанием, что перестройка не зашла в тупик, и жестом, неожиданно театральным для человека, никогда не говорившего на языке злободневного комментария.
В процессе переосмысления, который шел той весной, молодые художники часто, не задумываясь, выносили приговор старшему поколению. Единодушно признавалось, что Булатов так и не смог принять перестройку. Кабакова обвиняли в том, что он потворствует вкусам Запада и занимается самоповторением. Выслушивая эти упреки, Кабаков, как всегда, сохранял непроницаемое лицо, обычную для себя мину человека, перегруженного всеобщим вниманием и неспособного ответить на все упреки. Есть одна старая история про Шагала, популярная среди художников, ее мне рассказал Никола Овчинников. В 1918 году Казимир Малевич как член Художественной коллегии Наркомпроса поручил своим подчиненным на местах к первой годовщине революции украсить все значимые общественные пространства своих городов. Марк Шагал был великим художником, и он был комиссарам по делам искусств Витебской губернии. Ему прислали рулоны ткани, литры краски и велели украсить город. Он нарисовал огромные картины и развесил их, как ему и было велено, на здании городского собрания, на рыночной площади и где-то еще. Что же он нарисовал? Нарисовал ли он славные свершения коммунизма или что-нибудь конструктивистское? Нет. Он нарисовал летающих коров и старых евреев со скрипочками и детей, которые летят рядом с луной. Малевич усмотрел в этом издевательство и добился его ареста, но Анатолий Луначарский, возглавлявший в то время Наркомпрос, освободил его, мудро заявив: «А что еще он мог сделать?» Наиболее радикальные из молодых художников той зимой заявляли, что Кабаков, Булатов и Чуйков предали общее дело, но более зрелые художники относились к этому снисходительно. А Кабаков, как будто назло всем, создавал работы, становившиеся все более сложными, предлагавшие все более умный и тонкий комментарий по поводу его собственного положения на Западе и ситуации, в которой оказались там другие советские художники.
Первыми, кого я увидел на открытии в Прато, были Вика Кабакова, Наташа Булатова и Надя Бурова (жена Димы Пригова), болтавшие друг с другом. На Вике была кожаная юбка и очень красивая блузка из пурпурного шелка, на Наташе – черное бархатное платье с кружевным воротником из последней коллекции Лоры Эшли, Надя была в твидовом костюме и в черных лодочках с большими бантами. Они выглядели утонченными дамами, казалось, они рады, что встретились здесь, на этой вечеринке, они излучали спокойствие и безмятежность, как, наверное, в былые дни, когда они встречались у себя на кухне. Вика, прилетевшая прямо из Москвы, сообщила мне: «Два дня назад в Москве была большая демонстрация, там было пять тысяч человек, против "Памяти" [32], против коммунистов, против угнетения. Они не позволят, чтобы это продолжалось, это поворотный пункт, это конец нашей свободы». Наташа сказала: «Две недели назад была огромная демонстрация, пять тысяч человек вышло протестовать против всего того зла, которое существовало в стране в течение многих лет. Это поворотный пункт, это начало демократии для нашего народа». А Надя заметила:
«Знаешь, две недели назад в Москве прошла большая демонстрация, пять тысяч человек вышли протестовать против всего, чего угодно, там у них все перепуталось, и на публике все спорили точно так же, как всегда спорили на кухне. В нашей стране ничего не меняется. Демократия здесь – это всего лишь идея, и мы от нее не ближе и не дальше, чем всегда».
Тремя неделями раньше я был в Берлине, мы сидели где-то с Ларисой Звездочетовой, когда пришла новость о вводе войск в Азербайджан. «Ой-ой-ой! – вскрикнула Лариса. – Это очень плохая новость». Я попытался высказать какие-то соображения как в пользу, так и против введения войск, но она только качала головой. «Им придется призвать солдат, и моего мужа опять отправят в армию!» – восклицала она. И я вновь осознал, насколько хрупкой была эта новая жизнь, в которую с таким уверенным достоинством вошли эти люди. Самой интересной игрой, в которую играли буквально все, был старый спор о том, есть ли будущее у демократии или она проиграет, но это обсуждалось как вопрос чисто риторический. Все запреты и тайны исчезли, но по-прежнему безмятежно работать при таких обстоятельствах было все равно что заниматься неофициальным искусством при Брежневе. Сергей Волков сказал: «До сих пор, даже если нам не нравилось будущее, мы знали, на что оно будет похоже. Мы могли делать работы, обращенные в будущее, потому что знали, что ничто никогда не изменится, что жизнь, в сущности, всегда останется такой же. Но сейчас мы знаем, что будущее – это открытая территория, на которой может случиться все что угодно. Для нас это многое осложняет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

![Майкл Муркок - Спящая волшебница / The Sleeping Sorceress [= Участь Белого Волка, Рыцарь Хаоса, The Vanishing Tower]](/books/137758/majkl-murkok-spyachaya-volshebnica-the-sleeping-sorc.webp)



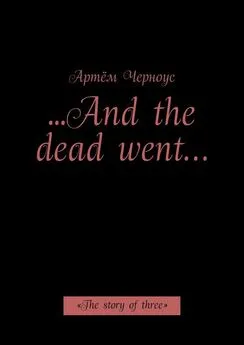
![Генри Каттнер - Очи Тхара [The Eyes of Thar]](/books/1098686/genri-kattner-ochi-thara-the-eyes-of-thar.webp)